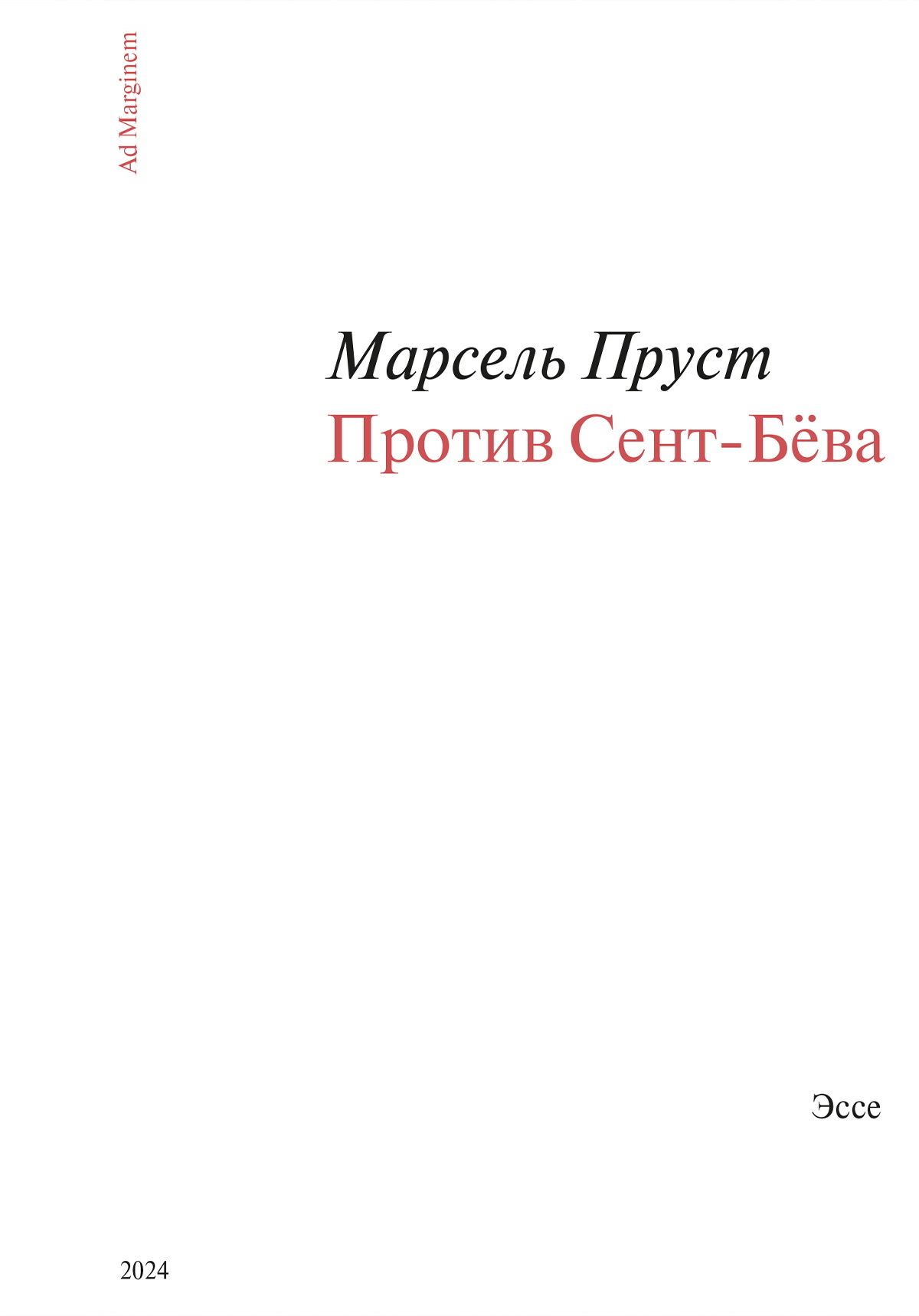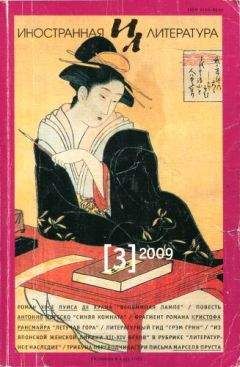«Старушки», от него не ускользает ни одно из перенесенных героинями страданий. Описаны не только их непомерные горести:Их глаза – это слез неизбывных озера <…>Все, чьи слезы лишь море вместить бы могло
[80].
Автор перевоплощается в них, пропускает через себя их боль и слабости:
Ковыляет, исхлестана ветром такая,На грохочущий омнибус в страхе косясь…
Но красота описания, его характерность не заставляет поэта отшатнуться ни от одной из страшных подробностей:
Будто дергает бес колокольчик смешной,Будто кукла, сломавшись, ручонкою машет <…>И держась еще правил, пряма как девица…Гроб старушки, – наверное, вы замечали —Чуть побольше, чем детский, и вот отчего:Схожий символ, пронзительный символ печалиВсё познавшая смерть опускает в него.Впрочем, каюсь: при виде фигур безобразных,В геометры не метя, я как-то хотелПодсчитать: сколько ж надобно ящиков разныхДля испорченных очень по-разному тел.
И особенно вот это:
Только я, с соучастием нежным поэтаНаблюдая, как близитесь вы к рубежу,С безотчетной любовью – не чудо ли это? —С наслаждением тайным за вами слежу.
И потому любить Бодлера – как сказал бы Сент-Бёв, чье выражение я запрещаю себе перенимать, хотя искушение использовать чужую манеру письма не раз охватывало меня, однако эти наброски статьи должны быть свободны от налета какой бы то ни было игры ума: ведь это не подражание, а всего лишь заметки, где имена сами приходят мне на память и срываются с моих уст, – так вот, любить Бодлера – я имею в виду любить его чуть ли не до беспамятства за столь человечные и проникновенные стихи – не обязательно признак большой душевности. Исторгнув из себя видения, которые – я убежден – причиняли ему боль, он создал картину такой силы, но настолько лишенную всякой чувствительности, что услаждать себя ею могут только закоренелые циники, любители колорита и по-настоящему черствые сердца. Строка «Вам, обломкам великой громады людской!» возвышенна, ее любят повторять великие умы, великие сердца. Но сколько раз ее произносили уста в полной мере наслаждавшейся ею, умнейшей и вместе с тем самой бесчеловечной, безнравственной и жесткосердной из женщин, которую я когда-либо встречал, когда она для забавы бросала эту фразу, как пророчество скорой смерти, вперемешку с изощренными и жуткими оскорблениями в лицо проходящим мимо старушкам, которых ненавидела. Испытать все мыслимые несчастья, но в достаточной мере овладеть собой, чтобы при виде их не разочароваться в самом себе, уметь переносить страдание, искусственно вызванное злобой (забываешь, до какой степени беспощаден дивный стих, цитируемый тобой: «Трепещет скрипка в лад душе без сил и пыла» [81].
О этот трепет сердца, которому причиняют боль! – только что это было нервной дрожью старушек среди грохота омнибусов); быть может, подчинение чувств истине, выражению и есть, в сущности, проявление гениальности, силы, превосходства искусства над личной жалостью. Но в случае с Бодлером есть нечто еще более непонятное. Облекая чувства в самые возвышенные слова, он как будто дает нам лишь внешнее их описание, не сопереживая им. Таковы великолепнейшие строки о милосердии, из числа необъятных и развернутых бодлеровских строк:
Как триумфатору, грядущему в величьи,Для ног Христа соткать из добрых дел ковер
[82]
Однако есть ли что-либо менее милосердное (пусть намеренно, это не имеет значения), чем настроение всего стихотворения:
Как ястреб, горний дух крыла свои расправил,Пал на безбожника, вцепился пятернейБедняге в волосы: «Держись Христовых правилИ веруй, – возопил, – я добрый ангел твой!Ты должен всех любить, не делая различья,Бедняк ли он, злодей, безумец или вор, —Как триумфатору, грядущему в величьи,Для ног Христа соткать из добрых дел ковер».
Ему безусловно внятно всё, что таится в названных добродетелях, но он словно изгоняет саму их суть из своих стихотворений. Поистине, вся сила преданности сосредоточена в строчках:
Вами пьян я давно! Но меж хрупких созданийЕсть иные – печаль обратившие в мед,Устремившие к небу на крыльях страданийСвой упрямый, как преданность Долгу, полет
[83].
Кажется, что небывалой, неслыханной силой глагола (во сто крат более мощного, чем у Гюго, что бы там ни говорили) он увековечивает чувство, которое силится не испытывать в самую минуту его называния, скорее описания, нежели выражения. Любую боль, любое наслаждение облекает он в невиданные словесные формы, почерпнутые в своем собственном духовном мире, формы, которые мы никогда и ни у кого более не встретим: они с планеты, принадлежащей ему одному, и не похожи ни на что из известного нам. Каждой разновидности персонажей придает он одну из этих просторных, еще горячих, сочных, истекающих ароматом форм – их можно уподобить мешкам под бутыли или окорока, – и хотя проделывает он это шумно, громоподобно, всё равно кажется, что он шевелит одними губами, и при этом ему не удается скрыть, что он всё выстрадал, всё осознал, что он – чувствительнейшая из струн, глубочайший из умов.
Та – изгнанница, жертва суда и закона,Та – от мужа одно лишь видавшая зло,Та – над сыном поникшая грустно мадонна, —Все, чьи слезы лишь море вместить бы могло
[84].
Каждое из слов – чудо, каждое окутывает мысль чудесным покровом – то мрачным, то ярким, то притягательным. Но «сочувствует» ли он, переселяется ли в сердца героев?
Часть этих прекрасных, изобретенных им поэтических форм, о которых я тебе говорил, форм, укрывающих теплым цветистым покрывалом называемые им события, отсылают нас к родине предков:
Та – изгнанница, жертва суда и закона…Что нас толкает в путь? Тех – ненависть к отчизне
[85].Отчизна древняя и портик ты чудесный
[86].
Как и чудесные покровы на мыслях о семье («Тех – скука очага»), немедленно входящих в разряд библейских речений, как и все те образы, что составляют неукротимую мощь такого стихотворения, как «Благословение» [87], где всё возвеличено достоинством искусства:
В твое вино и хлеб они золу мешаютИ бешеной слюной твои уста язвят;Они всего тебя с насмешкою лишают,И даже самый след обходят и клеймят!Смотри, и даже та, кого ты звал своею,Средь уличной толпы кричит, над всемглумясь <…>Над ним, как древний бог, я гордо вознеслась!Родила б лучше я гнездо эхидн презренных,Чем это чудище смешное…
Наряду со столь частыми у Бодлера расиновскими строками:
Дитя! Повсюду ждет тебя одно страданье…
великие, пылающие, «как потир» [88], строки – его гордость:
Мать обрекла себя на вечное сожженье —Ей материнский грех костер соорудил!
[89]
и все прочие слагаемые бодлеровской гениальности, которые я с таким удовольствием перечислил бы тебе, будь у меня время. Но в этом стихотворении его увлекли уже образы католической теологии:
На вечном празднике Небесных Сил и Тронов <…>Страданье – путь один в обитель славы вечной,Туда, где адских ков, земных скорбей конец;Из всех веков и царств Вселенной бесконечнойЯ для себя сплету мистический венец!
[90]
(На сей раз образ подан без иронии, как было с упомянутыми мною образами преданности