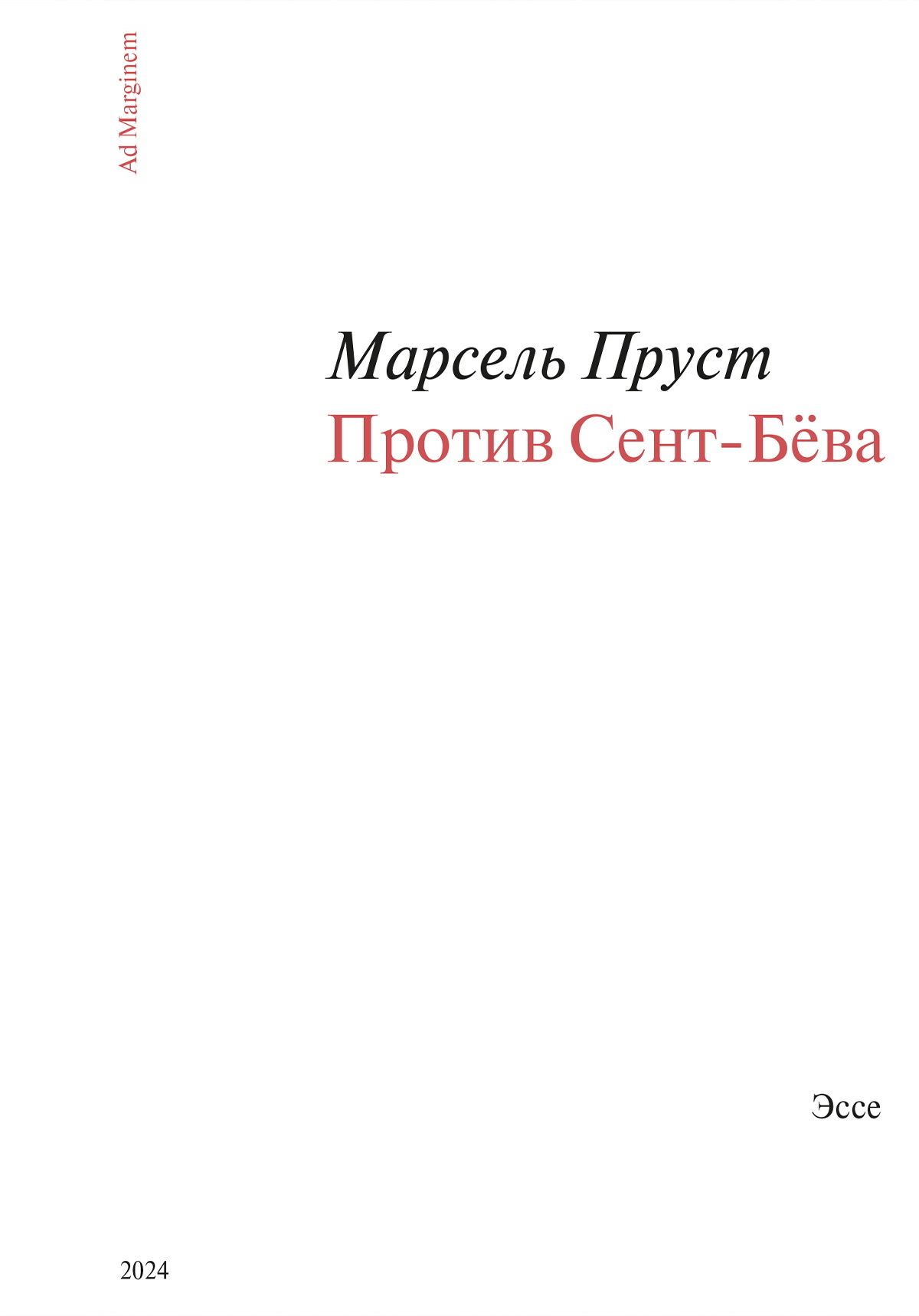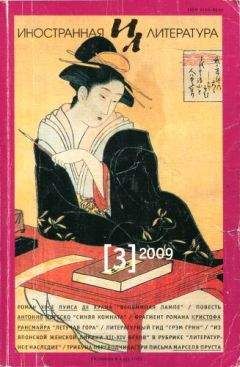и милосердия, но по-прежнему бесстрастно, его отличает большее совершенство формы, большая наполненность аллюзиями на средневековое католическое искусство, он более описателен, нежели эмоционален.)
Я не касаюсь стихов, обращенных к Мадонне, построенных как раз на игре всеми этими католическими формами. Скорее имею в виду вот этот чудный образ:
Вслед за собою змей влачу я с той поры,И часто мне в стопы они вонзают жала
[91],
который он так любит заимствовать в Священном Писании: «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая» [92]; «У тебя под ногами, как под ногами Христа!» – inculcabis aspidem, «на аспида наступишь» [93]. Не обойдя молчанием его слишком известные (и возможно, основополагающие) поэтические формы, я мог бы, думается, мало-помалу воскресить для тебя вселенную бодлеровской мысли, этот мир его гения, где каждое стихотворение – лишь часть целого: стоит начать его читать, как оно сразу подверстывается к другим известным его стихам. Это похоже на впервые увиденную в гостиной картину [94]: по окрашенной в закатные тона античной горе поднимается в сопровождении нескольких Муз поэт с женскими чертами лица, иными словами, на картине изображена античность в ее естественном состоянии, а Музы воспринимаются как реально существовавшие женщины, по двое, по трое прогуливающиеся под вечер с поэтом и т. п. Во всём этом мимолетном, придающем бессмертной легенде нечто реальное, ощущается часть мира, принадлежащего Гюставу Моро. Тебе понадобились бы все порты, а не только тот, «что полн и мачт и парусов» [95], или тот, где:
Там скользят корабли золотою стезею,Раскрывая объятья для радостных снов,Отдаваясь небесному, вечному зною
[96],
но и тот, что всего лишь «портал»
Весь в красочных огнях, струившихся с высот
[97],
и тот, что ведет «бедняка туда, в простор небесный» [98]. И кокосовые пальмы Африки, бледные, как призраки,
В свой кокосовый рай устремившие кроткий,По земле африканской тоскующий взгляд
[99]Дерев кокосовых ища во мгле сырой!
[100]
И нужно заняться вечерней заре, когда
…на скатерти лучейЖивые отблески, как отсветы свечей
[101],
и наступить часу «вечернего таинства, воздушно-голубого» [102] с обрывками музыкальных фраз, позволивших ему создать, может быть, самую дивную после «Героической симфонии» Бетховена восторженную песнь:
Да послушать оркестр, громыхавший металлом,Хоть заемным геройством волнующий грудь,Если в парк, освеженные вечером алым,Горожане приходят часок отдохнуть
[103].И этот зов трубы столь сладостен, когдаТоржественный закат зовет к небесной жатве
[104].
Вино с момента созревания винограда
…на холме, иссохнувшем от зноя
[105],
и до того, как «гортань работника» станет ему «теплой могилой», воспевается не только в посвященных ему божественных стихах, но повсюду, где оно или любой другой эликсир, любая другая амброзия (иное чудесное питье, приготовленное его собственной рукой) исподволь используется при создании образа, наподобие того, который говорит о смерти:
Лишь Смерть до вечера руководить нас будетИ в нашу грудь вольет свой сладкий эликсир!
[106]
Голубые дали с наклеенными на них белыми парусами,
Когда в лазурной дали явитдрожащий контур свой фрегат, тартана, бриг
[107].Ласкали небеса, сияло гладью море…
[108]И негритянка, и кошка, как на полотне Мане…
[109]
Впрочем, осталось ли хоть что-то, чего не коснулась бы его кисть? Я опускаю тропики – эта тема его гениальных творений слишком известна, по крайней мере, нам с тобой: мне ведь было так нелегко приучить тебя к стихотворению «Волосы»; но разве не описал он «солнца льдистый диск» [110], «полярного ада громады багровой». Если о лунном свете им написаны строки, похожие на камень, в котором, как под стеклянным колпаком, таится кабошон, из которого потом выйдет опал, строки, напоминающие струящийся над морем лунный свет, сквозь который жилкой другой породы – фиолетовой либо золотой – пробивается радужный отлив, подобный лучу Бодлера, совсем по-иному описал он самое луну – «луна сверкала, как литье»[111]; я не привожу здесь его стихов об осени, заученных нами с тобой наизусть, но его божественные стихи о весне совершенно иные:
Весенний нежный мир уродлив стал и груб
[112].
Конец Бодлера
Да разве перечесть эти поэтические формы, если всё, о чем Бодлер говорил (а говорил он всей душой), подано им в виде символа, всегда такого материального, такого ошеломляющего, в столь малой степени отвлеченного и при этом использующего самые выразительные, самые употребительные и дышащие достоинством слова?
Бунтарей исповедник, отверженных друг…Зажигающий смертнику мужества взор —Не казнимым, но тем, кто казнит, на позор… [113]
А вот о смерти:
Смерть – ты гостиница, что нам сдана заране,Где всех усталых ждет и ложе и обед! <…>Ты оправляешь одр нагим, как добрый гений;Святая житница, ты всех равно сберешь;Отчизна древняя и портик ты чудесный,Ведущий бедняка туда, в простор небесный! [114]
А вот о трубке:
Я раскаляюсь, как печурка… [115]
А его женщины, его вёсны с их ароматом, его утра с летящей со свалок пылью, его города, пробуравленные ходами, как муравейники, его сулящие целые миры «Голоса» – и те, что доносятся из книжного шкафа, и те, что несутся впереди корабля, и те, что возвещают: «Жизнь – это сладкий мед, и всё в ней – благодать» [116] или призывают:
…Сюда! В любую поруЗдесь собирают плод и отжимают сок [117].
Вспомни, им найдены все истинные современные поэтические цвета, и пусть они не доведены до совершенства, но прелестны, особенно розовые с примесью голубого, золотого или зеленого:
Ты вся – как розовый осенний небосклон… [118] Вечер на балконе, розоватый дым… [119]
Найти: «усыпанные голубым», «дымка» и все вечера, в описаниях которых присутствует розовый цвет.
Эта вселенная содержит в себе еще одну, упрятанную более глубоко, прибежище которой – запахи. Однако так мы никогда не закончим. Если взять любое из стихотворений Бодлера (не обязательно его возвышенные стихотворения первого ряда, вроде «Балкона» и «Путешествия», одинаково любимые тобой и мной), ты удивишься, наталкиваясь через каждые тричетыре стиха на знаменитые строки – словно бы и не бодлеровские, знакомые, но позабытые, строки-прародительницы что ли, настолько они обобщающи и новы, и тысячи других подобных строк, которые никому не удавалось так блестяще [4] отделать. Вот одна из них:
Или о вечности мечтать, как в полусне? [121]
что могла показаться тебе строкой из Гюго. А вот еще одна:
Влечешь глаза мои, как может влечь портрет [122],
что могла показаться тебе строкой Готье. А вот еще одна:
Но я б тебя любил – мы оба это знали [123],
что могла показаться тебе строкой Сюлли-Прюдома [124]. А вот еще такая:
Но от его любви шарахается каждый [125] —
ни дать ни взять строка Расина; тогда как
О, как бредовый лоск небытию идет! [126] —
Малларме, да и только! А сколько строк могли бы показаться тебе строками Сент-Бёва, Жерара де Нерваля, стольким связанного с Бодлером и так же не ладящего с родными (о Стендаль, Бодлер, Жерар!), правда, более мягкого и снисходительного, но такого же невропата, и,