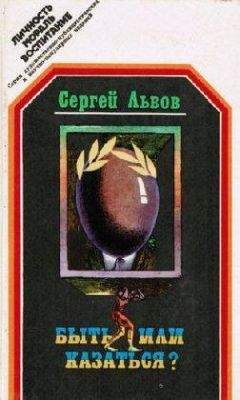Извечный студенческий спор… Одни сетуют, что учение по дает им радости. Тут и растерянность перед обилием задач, и непривычка к учению, и, наконец, усталость. Вполне реальные причины.
Другие упиваются чувством радости от того, что учатся любимому делу. «Проблем через край: занятия, работа, домашние хлопоты. Настоящее колесо… Тягостна ли такая жизнь? Вовсе нет. Она полна радости и смысла», — говорит, например, один будущий журналист. Но, высказав свою точку зрения, он и слышать не хочет голосов, которые ей противоречат.
А ведь слова о тяжести образования для будущего журналиста — благодарная тема. Ему бы разобраться в истоках настроений, с которыми он не согласен, вдуматься в доводы противников, переубедить собеседников.
Впрочем, и многие из тех, кто признает, что безрадостно учиться лишь ради диплома, ставят под сомнение искренность высоких слов о поэзии учения и призвания. Логика тут проста: раз я учусь по соображениям сугубо практическим, значит, и все остальные поступают точно так же, а говоря об идеалах, попросту притворяются.
Любопытно, что высокомерие романтиков и язвительность практиков лишь кажутся полярно противоположными. Одни воспаряют над жизненной прозой, словно в их собственной жизни не существует никаких сложностей, а другие откровенно говорят о трудностях, но не признают, что, несмотря на все трудности, можно быть бескорыстно увлеченным и своим учением, и своей будущей профессией. И те и другие выхватывают только одну из сторон проблемы и отстаивают только свой взгляд на нее, стараясь не выслушать иные точки зрения, а перекричать друг друга. В конечном итоге и те и другие скользят по поверхности.
Но чему бы ни учился будущий специалист, ему необходимо научиться выслушивать не только то, что с его мнением совпадает, но и то, что его точку зрения опровергает.
Когда‑то мне довелось участвовать в самодеятельном сатирическом ансамбле, и со сцены там звучала пародийная фраза: «Это моя точка зрения, и я ее целиком разделяю».
Многие письма, пришедшие в ходе дискуссии, проникнуты таким же необычайно высоким уважением к своей собственной точке зрения и полной глухотой к чужим взглядам.
Мне думается, что любому специалисту хорошо бы выйти из высшей школы человеком широких взглядов. А для итого как минимум необходимо представить себе, что возможна иная точка зрения, кроме твоей собственной.
Один старый испанский писатель сказал еще в XV веке: «Первый признак безумия — представление о собственной мудрости». Последующие века показали, что это утверждение не устарело. Его стоит помнить и тому, кто делает первые шаги на научной стезе, и тому, кто на ней утвердился. Ученые мужи, некогда встречавшие язвительными насмешками каждое сообщение о падении метеоритов, заявлявшие, что попытка создать автомобиль безумна, высмеивавшие того, кто предложил противооспенную вакцину, и того, кто предложил обезболивание при операциях, исходили из представлений о собственной непогрешимости.
Более поздние и более близкие примеры — хотя бы попытка объявить кибернетику и генетику лженауками — у всех на памяти!
И раз мы уже обратились к прошлому, стоит вспомнить, что это в средневековых университетах преподавание строилось на признании неоспоримости и вечности однажды сказанного «отцами» церкви, Аристотелем. Даже формула такая существовала: «Учитель сказал». Подразумевалось: «Следовательно, это верно»…
Времена, когда студенты средневековых университетов, раскачиваясь, чтобы легче было запомнить, зубрили, что именно сказал учитель, — далекая история.
Но древние представления, обязывающие студента и вообще учащегося заучить, а не осознать, не понять, а принять на веру утверждения педагога, хотя и претерпели различные превращения, оказались удивительно живучими.
Вот студентка сетует в письме: «Лекторы, читая нам курс грамматики, говорят: „Профессор X. истолковывает вопрос так, а в учебнике профессора У. материал изложен по-другому“. У всех ученых свои труды, свои убеждения… Разве нельзя взять все, что имеет твердое обоснование, и объединить в единый учебник? Для студентов это было бы удобней и проще».
Студентке кажется, что ей не повезло с преподавателями, которые ссылаются в лекциях па разные точки зрения. По-моему, она ошибается: ей повезло. Не берусь высказываться о точных науках, хотя можно предположить, что и здесь возможны различные взгляды.
Но и в теоретической грамматике, и в стилистике, и в лексикологии, и в теории и истории литературы существовали, существуют и, можно надеяться, будут существовать разные точки зрения на многие проблемы. И лектор, который не вещает с кафедры как единственный обладатель истины, а ссылается на разные взгляды, существующие по этому вопросу, сравнивает их, не умалчивая, разумеется, и о своем, доказывает свою точку зрения, а не навязывает ее, поступает как должно.
На то она и высшая школа!
При чтении многих писем прямо или косвенно возникает проблема: нравственность и наука. Скажем прямо, острейшая проблема!
В конце сороковых — начале пятидесятых годов в нашей науке ярко засияло новое светило. Назовем его доцентом Н. Н. О блеске, эрудиции Н. Н., о его памяти рассказывали чудеса.
Это были нелегкие годы для науки. Истина зачастую не столько добывалась в научном поиске и утверждалась в научном споре, сколько провозглашалась как непреложная, а думающих иначе не переубеждали, но прорабатывали, а порой и вовсе отлучали от науки.
К каким личным трагедиям оно вело и какой ущерб интересам Отечества наносило, впоследствии было хорошо показано во многих появившихся в печати статьях, например, о биологии, которой в те годы пришлось особенно тяжело.
Все это осложняло и отравляло жизнь настоящим ученым, но зато благоприятствовало научным Сальери. Не угнетая себя раздумьями, совместные ли вещи гений и злодейство, твердо зная, что сами они не гении, не терзаясь душевными муками, они пускали в ход против своих Моцартов яд демагогии в публичных спорах и яд интриг в кулуарах.
Тогда‑то и появился доцент Н. Н. Любезный, много знающий, складно говорящий, чуткий ко всему новому. Мы слушали его лекции, его выступления на заседаниях, и от лекции к лекции, от заседания к заседанию, все слышнее становился внутренне пустой звук его гладко льющейся речи. Стало заметно, что вся его эрудиция формальна, а гигантская память изменяет ему самым поразительным образом. На лекции в пятницу он вдруг забывал то, что утверждал в среду. И не просто забывал, а, можно сказать, выворачивал наизнанку свои вчерашние утверждения. Почему? Да потому, что в четверг о писателе, который был темой его лекции в среду, появилась заметка в газете, заставшая врасплох даже нашего лектора, несмотря на всю его эрудицию и интуицию, впрочем, в данном случае уместнее сказать по-простому — «нюх».
Проходили годы. Доцент Н. Н. стал профессором, но по-прежнему все решал одну и ту же научную проблему, наиважнейшую для него — быть не тем, кого прорабатывают, а тем, кто прорабатывает, а еще лучше направлять проработку из‑за кулис.
Все свои силы он, человек не бездарный и не глупый, тратил на соображения, отношения к науке не имеющие, разрабатывал приемы, надеясь обезвредить возможных противников, а возможных конкурентов ублажить!
Когда о каком‑нибудь молодом научном сотруднике говорили: «Ученик Н. Н.», это звучало настолько двусмысленно, что сам ученик краснел и начинал что‑то лепетать об истинной цене своего шефа.
Времена, к счастью, скоро изменились. Действовать Н. Н. было трудно. Над бойкой конъюнктурностью его книжек и статей не раз посмеивались и в печати.
Профессор с годами стал сед и сановит. Речи его под старость зазвучали снова, как звучали смолоду, когда он только начинал свою карьеру: был обходителен и робок, шаркал ножкой и старался ни с кем не ссориться. Он достиг многого из того, чего хотел, и вожделенно взирал на следующую ступень, был предельно осторожен, стараясь ничем не рисковать и ничего не упустить.
Когда мне случалось встречать его, убеленного сединами, удостоенного звании, процветающего, мне всегда приходили на память слова поэта Леонида Мартынова о «богатом нищем», преуспевающем человеке с пустой душой.
Ну, да черт с ним! Своей жизнью он распорядился так, как хотел. Своими научными занятиями тоже. Его труды были гладкой компиляцией, словесная вязь не выдерживала простейшего испытания — конспектирование его лекций обнажало их пустоту. Книги, написанные им, не поддавались пересказу: слова цеплялись за слова, а мыслей, оказывается, просто не было.
Но скольким молодым людям, которые попадали в его орбиту, нанесен духовный ущерб! Были у него последователи, воспитанные на его примере, которые считали, что его способ утверждения себя в науке не так уж плох.
И как непросто преодолеть заразу, которую несет в себе подобное безнравственное отношение к науке. Наука и безнравственность столь же несовместимы, как гений и злодейство.