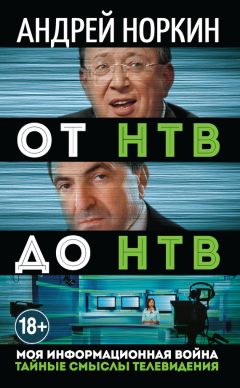(Это как с принципами. Почему-то всегда, когда люди в невоенное время заводят речь о принципах, это обязательно бывает связано с чем-то малосимпатичным, и искомый «принцип» становится сразу похож на комплекс, возведенный в мораль. «У меня принцип - никогда не давать в долг, не прощать опозданий, не доверять бабам» etc.)
Я- то всегда любил телевизоры -именно так, во множественном числе. Телевидение как процесс меня практически не занимало. В одной философической брошюре прямо сказано: «Стоит вещи утратить свое конкретное практическое применение, как она переносится в сферу психической практики». Мои отношения с телевизором строятся ровно по этой схеме.
Строго говоря, я от телевещания никак не завишу. Мне, в общем, не нужны сериалы, новости, MTV, полуночная софт-эротика. Я практически никогда не смотрю футбол, мне не сдался вокресный вечер с Владимиром Соловьевым. Я не вижу для себя большой необходимости в кинопоказах канала «Культура» или рассветных сеансах социалистического трэша. В принципе, даже без интонационных пируэтов Виталия Вульфа я могу прожить.
Тем не менее телевизор практически не выключается. Мне, как садовнику из книжки Косинского, всегда нравилось смотреть Его - причем в данном случае это даже не метонимия.
Я всегда воспринимал телевизор как вещь, которой ты обладаешь, но не контролируешь. Телевизор в этом смысле служит хорошей, а главное замечательно двусмысленной иллюстрацией к двум любимым проблемам современного общества - потребление и контроль. Ты смотришь телевизор, а телевизор смотрит тебя. Он живет самостоятельной жизнью - поэтому один и тот же фильм приятно смотреть несколько раз.
Связанные с телевизором психические практики, естественно, могут быть самыми разными. Например, мой знакомый, московский фотограф Женя Нестеров, использует телевизор как аквариум - с отключенным звуком что-то неторопливо движется за стеклом. Впрочем, чувство блаженного отупения, которое может дать телевизор, очевидно и хорошо всем знакомо. Куда интереснее проследить за тем, как телевизор ведет себя в часы бессонного отчаяния. Согласно известной фитцджеральдовской жалобе, в ночных потемках души часы всегда показывают три утра.
Вот тогда-то и включается телевизор. Как ни странно, он очень вовремя и кстати - в эти часы репертуар становится, как правило, особенно странен и бесплотен, это уже даже не фильмы и передачи, но какие-то незнакомые формы жизни.
Чистота подобного телевизионного эксперимента легко достигается в гостиницах - особенно в странах, чьих языков ты не знал и уже вряд ли узнаешь. У Янки была строчка в песне - «и телевизор с потолка свисает». До меня только недавно дошло, что это никакой не депрессивно-художественный образ, а элементарная зарисовка с натуры. В забытых Богом гостиницах телевизор действительно в целях экономии жилой площади бывает приторочен к самому потолку. Непонятно, правда, где это наблюдала Янка.
У Бодрийяра в книжке про Америку был хороший образ - в пустом гостиничном номере оставили включенный телевизор, и он себе вещает в пустоту. Я уже не помню, какие выводы Бодрийяр из этого сделал, скорее всего, по обыкновению, неутешительные, что-нибудь насчет подмены реальности и конца иллюзии. С помощью книг, статей и всевозможных инсталляций телевизор был бессчетное количество раз провозглашен агентом отчуждения. В общем, все это было вполне справедливо и остроумно, мне только не нравится эта интонация жалобы - дескать, мы смотрим телевизор, а телевизор смотрит нас (лучшая пьеса Сорокина «С Новым годом!» была написана как раз по этому поводу; впрочем, там угроза, исходящая от телевизора, не вызывала уже никаких сомнений). Что дурного в том, что телевизор смотрит нас? Пусть смотрит.
Телевизор так или иначе имеет дело со смутной надеждой, причем не пойми на что.
Надежда - это то, с чем нельзя взаимодействовать, поэтому, например, в технологии web 2.0 есть все, кроме нее. А в телевизоре это еще осталось. Всегда же остается шанс, что сейчас кто-то начнет ругаться матом, как питерский художник Сережа Сонин на прямом эфире у Полотовского, скидывать с себя одежду или на худой конец просто сбежит из студии. Зачем это нужно, не очень понятно - однако же смежные области искусств таких надежд уже практически не поставляют. В этом смысле телевизор напоминает даже не аквариум, но скорее холодильник - тяга к пульту сродни похмельному броску на кухню.
Но, разумеется, как справедливо выражался Виктор Олегович Пелевин, «пива в холодильнике не оказалось».
Дмитрий Быков
Времечко и Максимум
Падение народного жанра
Представление о народном телевидении эволюционировало вместе с мнением начальства о народе. Одно время, в последние года три, две версии народного телевидения продолжали уживаться в эфире, как противоположные концепции мироздания в отдельно взятой шизофренической голове. В этом году победила вторая, и первая прекратила свое существование - не по политическим, конечно, а по форматным соображениям. Не обольщайтесь, это страшней. Если политическая цензура есть форма компромисса между творцом и властью, то формат есть абсолютная диктатура, не признающая за творцом даже права на возражение.
Первую версию народного телевидения, существовавшую с середины девяностых до нынешнего года, я назвал бы социальной. Это была попытка саморегуляции общества с помощью телеэфира: проблема обозначалась, освещалась и коллективными усилиями решалась. Мне понадобится тут небольшой исторический экскурс: в 1938 году Бабель закончил киноповесть «Старая площадь, 4». Это последняя его законченная проза, и очень странно, что никто из режиссеров до сих пор не взялся за этот увлекательный сценарий про строительство дирижаблей в СССР. Бабель пишет нехитрую притчу: дирижабль построен и может взлететь, но не умеет садиться. Проблема в том, что в силу конструктивного недочета, обнаруживаемого лишь в последний момент, у него нет связи между головой и хвостом. Советский проект пафосно стартовал, но рухнул позорно и стремительно - именно потому, что в нем плохо работали вертикальные связи: в элиту не был заложен механизм самообновления. У народа не было решительно никакого способа не то что справиться со своими проблемами, а элементарно заявить о них: повезло тем, у кого наверху были родственники (горизонтальные связи, в отличие от вертикальных, в российском социуме всегда работали: тут и родство, и кумовство, и система блата, и взаимопомощь на грани круговой поруки, и огромная роль землячеств). Народное телевидение пыталось связать хвост дирижабля с его головой - то есть рассказывать о реальных низовых проблемах и тут же их решать, поскольку гласное обсуждение сложностей - в России уже половина решения. Недостаток, о котором сказано по телевизору, устраняется через час.
Подобный подход к телеэфиру предполагает, что народ обладает разумом, волей и способностью внятно артикулировать свои беды. Более того: этот подход основан на старом, еще марксистском представлении о том, что народ и есть истинный творец истории. Так что по-хорошему народное телевидение следовало пригасить тогда же, в середине девяностых, - ибо в основе своей оно классический советский рудимент, и не случайно одной из главных передач этого народного телевидения, посвященной как раз самой прочной горизонтальной связи - коммунальному соседству, - была «Старая квартира», производимая Авторским телевидением. Авторское телевидение Анатолия Малкина и Киры Прошутинской, созданное в 1988 году, ориентировалось именно на социальные проекты, пытаясь вовлечь как можно больше народа в дискуссию по фундаментальным проблемам бытия. В этом русле был и «Пресс-клуб», и нынешняя - слава Богу, пока не убитая - программа «Народ хочет знать». Апофеозом народного телевидения первого типа было «Времечко» - программа, в которой я проработал восемь лет и которую попытаюсь сейчас задним числом осмыслить, но позже: разберемся сперва со второй версией народного телевидения, для которой сейчас будем вместе придумывать название.
Эта разновидность ТВ исходит из другой, постмарксистской - а на деле, думаю, домарксистской - концепции народа как балласта. Историю делает власть - это черным по белому написано в нескольких монографиях, изданных в последние годы; народ ей в этом чаще всего мешает. Демократия никогда особенно не нравилась русским интеллектуалам - может быть, потому, что они лично и неоднократно наблюдали бездны народной темноты; просвещение масс - дело трудоемкое и дорогое, больше всего в этом смысле сделала советская власть, введя принудительную восьмилетку, но и она не шибко преуспела. И ведь как я ненавидел это самое обожествление народа в мои советские годы! Какой отчаянной фальшью казались мне все эти уверения, что именно народ творит культуру, что народные песни выше Чайковского (и именно они питали живоносным ручьем его мелодический дар), что воля большинства служит законом для индивидуума! Но вот поди ж ты - в девяностые мне еще противней было смотреть на элиту и верить, что именно ей принадлежит ведущая роль в истории.