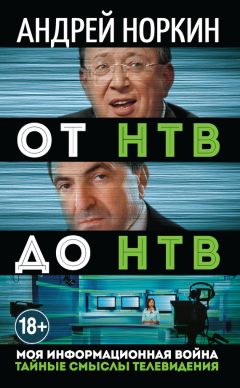Причина вечного многословия гостей и участников заключалась еще в одном - их никто никогда не слушал. Когда наступала их очередь выговариваться - они понимали, что это ненадолго. В результате их приходилось прерывать прямо в эфире, а телеобозреватели писали, что ведущие «Времечка» ни одну тему не дают обсудить всерьез - грубо обрывают экспертов, не дают высказываться залу, при первом же интересном повороте разговора уводят его в песок… Да поди не уведи, когда у тебя на серьезнейшую тему - двадцать минут, ни один гость не может внятно сформулировать позицию, а прозрачный телефон на столе (предназначенный для связи с генпродюсером) то и дело мигает нездоровым розовым цветом, потому что мы опять залезли на запретную территорию! Нельзя ругать мэрию Москвы и даже упоминать ее в недостаточно восторженном контексте; и правительство России тоже нельзя, потому что мэрия Москвы хочет жить и работать дальше, в своем духе, а чтобы ей это разрешали - она должна быть лояльней Глеба Павловского, святее Папы Римского! И даже если мы робко-робко намекаем, что не все у нас, может быть, пока хорошо с обеспечением пенсионеров лекарствами, - надо немедленно ввернуть, что в Москве эта проблема давно и успешно решена (а в зале сидит редактор по гостям и бешено хлопает в ладоши, чтобы, значит, и остальные зааплодировали: да-с, да-с, так точно-с!).
Была, впрочем, и еще одна удивительная народная особенность. Этот народ за долгие годы разнообразных зависимостей начисто разучился решать свои проблемы. Поэтому он звонил во «Времечко» решительно по любому поводу: сбежала собака, гадят на балконе голуби, котенок влез на дерево и не может слезть. Все народные проблемы должны были решаться по схеме «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Самоорганизация работала лишь на простейшем уровне, на кратчайшие расстояния: пассионариев, готовых поднять целые подъезды на правозащитную деятельность, набегает не больше десятка в год. Остальных хватает в лучшем случае на то, чтобы сесть на телефон и титаническим усилием дозвониться: здравствуйте, тут у нас на лестнице живет бабушка, ее выселили из квартиры жильцы, так вы, пожалуйста, приезжайте и разберитесь. А то милиция говорит, что это не ее дело: мы говорим, что она замерзает, а участковый говорит - когда замерзнет, пусть обращается. Мы ей вынесли тулупчик, кроватку поставили детскую, но вы все-таки приезжайте, разберитесь.
То есть это был удивительный в смысле самоорганизации народ, отлично видящий несправедливость, но не берущийся ее устранять без нашей санкции. Чтобы действовать, ему нужно было заполучить к себе программу «Времечко», и если бы она, разобравшись, сказала, что старушек действительно нельзя выкидывать на мороз, - тогда мы начнем интенсивно помогать, подкармливать и даже бороться за ее права; но сначала вы все-таки приезжайте, а то непонятно. Может, это так надо, чтоб она тут жила у мусоропровода.
Возникал удивительный образ страны - все про себя понимающей, но боящейся хоть что-то сделать; чудовищно многословной, дезориентированной, забывшей простейшие правила, основывающей свою жизнь лишь на самых древних и примитивных связях - родственных, земляческих… Зрелище всего этого гниения и распада под коркой глянцевой стабильности было, конечно, не для слабонервных: без памперса не взглянешь. При этом ресурс труда, таланта, доброты, самоотречения и терпения был у этой страны огромен, но чтобы он хоть как-то проявился - с ней надо было работать, заниматься ею, черт меня побери совсем, предлагать ей что-нибудь реальное, кроме заклинаний… хотя бы давать возможность выговориться иногда… Школьник сроду не научится любить литературу, если не читать ему вслух; ни рисовать, ни музицировать не выучишься без опытного терпеливого наставника, а вы хотите, чтобы люди самоуправлялись - элементарно не зная своих прав! Впрочем, именно в их самоуправлении никто и не заинтересован; чем потерянней, тем лучше.
Мне, собственно, не жаль ведущих «Времечка» - все они люди трудоустроенные; мне жаль его гостей, ту публику, которая рассаживалась на креслах в студии. Это были более или менее постоянные зрители, наш клуб; они менялись, конечно, и мы следили, чтобы они не повторялись слишком часто. Помню деда богатырского вида, с красной лысиной, с пятью рядами орденских планок; с ним часто приходила кроткая, неслышная жена, умудрявшаяся его утишить, когда он распалялся. Помню мать лет сорока с девочкой лет пятнадцати, которая все время с нами фотографировалась и мечтала стать фотомоделью: мать была худая, изможденная, а девочка, напротив, толстая и очень от этого страдала. Помню выдающегося в смысле ораторских способностей авторемонтника: этот формулировал внятно, ярко, точно - хоть сейчас в парламент, а работал слесарем, и вырваться на программу мог только по пятницам. Да Господи, мало ли их было за эти годы! - и все они крепко дружили и долго стояли после программы, не расходясь, разговаривая обо всем на свете. Куда они сейчас делись - вот чего не пойму; не могу себе представить, что смотрят программу «Максимум».
На программу «Максимум» от нас перешел Леша Бахарев, самый талантливый наш корреспондент, и мы не то чтобы ему завидовали или сочувствовали - парень молодой, надо расти, там и хронометраж, и возможности, и деньги совершенно другие, - но было нам как-то обидно. Потому что у этой программы вполне определенные задачи - работать планкой, ниже которой нет ничего. Она создана специально, чтобы Дума с ней боролась, а официальная церковь проклинала; чтобы «смотреть и ненавидеть», как сказано в «Generation П».
Вот клянусь вам, товарищи: я же знал Глеба Пьяных! Я знал его корреспондентом «Коммерсанта», и он был нормальный человек, и с ним можно было разговаривать! Но для программы «Максимум» ему придали какой-то особенно гнусный, неискоренимо раболепный вид, удлинили лицо, утончили голос, заставили всем корпусом изображать нечто глистообразное! Он входит в наши дома, трясясь от лихорадочной торопливости: сейчас, сейчас я расскажу вам гнусность, потерпите, неужели я не успею! Он выбирает самые бросовые темы, самые непристойные скандалы, самые омерзительные интонации - это своеобразный, долго культивируемый, заботливо выращиваемый эстетизм наоборот; и любой, кто посмотрит эту программу, с радостной готовностью воскликнет: я - свободный гражданин свободной страны. Я счастлив, все у меня в порядке, потому что пока еще я не лежу в параличе, не кромсаю ножницами родную мать и не являюсь нижним соседом певицы Земфиры.
Большая часть современного телерепертуара (в котором программа «Максимум» - лишь наиболее характерный образец) имеет характер сугубо функциональный. Телевидение не рассказывает о проблемах зрителя - оно этого зрителя ненавязчиво трансформирует в биоробота, который призван либо беспрерывно бежать за подвешенной к его носу морковкой (до 40 лет), либо тихо гнить в своем стойле (после 40). В функции морковки выступает гламур, в функции наркотика, облегчающего гниение, - фрик- и ток-шоу. Репортаж из стойла в этой системе ценностей, безусловно, неформат.
И знаете, о чем я думаю?
Я думаю, что это правильно, то есть туда нам всем и дорога.
Как признался мне один публицист, вручая книгу своих вольнолюбивых очерков: «Пока я это писал, я в это верил. А сейчас думаю, что все не так страшно, потому что на меня тоже уже постепенно действует».
Эдуард Дорожкин
Шустрое моделирование реальности
Рождение мифа о Рублевке
2000 год. Шестой километр Рублево-Успенского шоссе. Жуковка. Вечер. Трасса абсолютно пуста. Напротив, у пешеходного перехода, стоит брюнетка. Ей надо перейти дорогу - но она почему-то стоит на месте. В руке у девушки - микрофон. С «моей» стороны Рублевки, наизготове - ее оператор. Они чего-то ждут. Девушка видит, что я заинтригован, и объясняет. «Понимаете, я должна сказать в камеру: „На Рублевке нет места пешеходам. Самую дорогую трассу мира невозможно перейти ни днем, ни ночью“. А машин нет совсем». Она улыбается.
У нее действительно был повод для улыбки. Из такого вот мелкого невинного вранья, отправленного в эфир очаровательными брюнетками, блондинками, шатенками, и складывается образ Рублевки - недоступной и желанной. Где нет места пешеходу - как, впрочем, и любому другому человеческому инвалиду. Где цветут сады Семирамиды, жарится драгоценная дорада, на частных верандах поют Элтон Джон и Патрисия Каас, и можно встретить живую Ксению Собчак и всамделишного Никиту Михалкова.
Собственно, первыми за создание рублево-успенской мифологии принялись глянцевые журналы. Но глянец, даже самый тиражный, способен лишь сформулировать соображение, подбросить идейку. Чтобы новый образ дошел до масс и завладел их прихотливым сознанием, необходимо деятельное участие голубого экрана. Именно благодаря резвости телевизионщиков возникла «Рублевка» как метафора абсолютной роскоши, волшебного чертога, вход в который охраняют суровые нефтяники-циклопы и их беспощадные сирены - «рублевские жены».