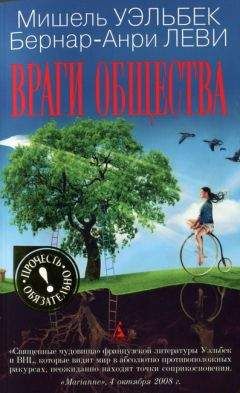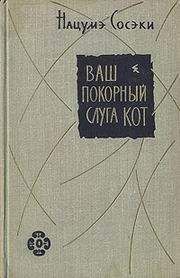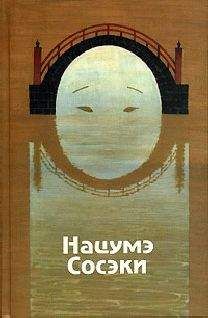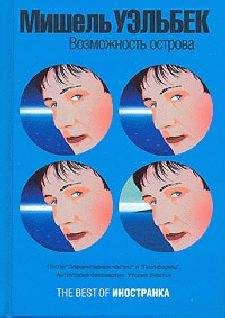21 марта 2008 года
Не знаю, кто из нас двоих будет признан лучшим «записывающим устройством».
Но должен заметить, дорогой Мишель, вы слишком увлеклись «исповедальным жанром», чересчур разошлись, забавляя простодушных читателей.
Давайте начнем сначала, спокойно, умерив полемический задор и, главное, не впадая в ярость. (Вполне возможно, что за время нашего дружеского поединка вы заслужили симпатии всех насмешников и шутников, людей с чувством юмора — которого у меня, как известно, нет, да я и не собирался упражняться в остроумии…)
Само собой разумеется, в последнем письме меня насторожила вовсе не ваша аполитичность, неучастие в выборах, размежевание с обществом по принципу: «Мне здесь не место, отныне я ухожу — вернее, уже ушел». Буду перебегать из укрытия в укрытие, из одного уютного дома в другой, не принадлежу ни к одному лагерю, не служу никакому государству, я свободен, я выше всей этой возни. Мое кредо — «I’d prefer not to»[39], как у писца Бартлби из одноименной повести Германа Мелвилла. «Возможность острова» — чем такое определение хуже любого другого?
Меня не смутило, что вы платите налоги в чужой стране. Хотя я сам поступаю иначе. «Технически» и у меня есть возможность уменьшить свои расходы, учитывая, сколько времени я провожу в Америке, сколько разъезжаю по свету в качестве журналиста, сколько путешествую. Мой адвокат, дока в своем деле, подсчитал, что я бываю в Париже меньше полу-года, меньше пресловутых «шести месяцев», то есть формально я не «резидент», обязанный платить налоги. Но я ни разу не воспользовался его выкладками, я исправно, в срок, как добропорядочный гражданин, вношу распроклятую мзду. А почему? Сказать по совести, я не уверен, что из одного только чувства долга. Или из бескорыстной любви к своей стране. Честно говоря, мне не хватает вашего нахальства. Я опасаюсь, что мне, громогласному обличителю-гуманисту, такая шалость не сойдет с рук. («Как же так, уважаемый! Нас обвиняешь во всех смертных грехах — мы, мол, злодеи, ради комфорта и наживы позабыли о чести и совести, — не прощаешь ни единой ошибки: того разоблачил, этого потопил, а сам припрятал денежки в Ирландии или на Мальте, ах негодяй! Теперь мы всё про тебя знаем! А еще кричит: „Голосуйте за ту, прокатите этого!"») Не стану лицемерить: мне тут явно нечем гордиться.
Ужасным, непростительным мне показалось не ваше отношение к войне. Вас тошнит при одной мысли о ней, вы обвиняете себя в малодушии, представая этаким «бравым солдатом Швейком», непокорным и непочтительным персонажем Гашека. Вы приписываете себе неспособность подчиняться приказам, воинствующий анархизм, нарочитое добродушие, склонность к дезертирству, вероломному увиливанию, молчаливому бунтарству. Бросьте, мы все одним миром мазаны. Только дурни бросаются очертя голову навстречу опасности. «Смелыми» в вашем понимании можно назвать разве что героев глупейших романов Дриё ла Рошеля, Юнгера или Монтерлана.
Признаюсь: в действительности я ничуть не храбрее вас. Звериная жестокость — а я вдоволь насмотрелся на нее в Сараеве, Африке, Афганистане, Южной Азии — внушает мне, так же как и вам, панический страх. Тем более что знаю о ней не понаслышке, мгновенно, даже на огромном расстоянии, ощущаю ее жаркое смрадное дыхание. Не представляете, как позорно я струсил в 1998 году в Панджшерском ущелье, где оказался по заданию газеты «Монд». Во время интервью с Масудом в нескольких метрах от нас разорвался 155-миллиметровый снаряд: Масуд и бровью не повел, а ваш покорный слуга буквально спрятался за него… Да, я прославлял Масуда, а с боснийским президентом Изетбеговичем меня связывала дружба, но уважал я их не за отвагу и хладнокровие, а за способность «воевать, не любя войну»[40], цитируя того же Мальро. Так что и здесь у нас с вами, в общем, нет разногласий. Настал мой черед вас успокаивать (или разочаровывать?): не волнуйтесь, вы отнюдь не «трус», а вот «смешной» вы или нет — не знаю.
И все-таки в вашем письме есть две вещи, с которыми я не могу согласиться. Во-первых, рассказ вашего отца, во-вторых, отвратительное высказывание Гёте о несправедливости и беспорядках.
Начнем с рассказа.
В самом деле, жаль, что вы не удосужились расспросить отца поподробнее, у вас не хватило времени, недостало любопытства.
Согласитесь, так часто бывает.
Пока родные с нами, мы заняты чем-то другим.
Спохватимся — их больше нет, или они отдалились, и ни о чем не спросишь — неловко.
Две недели назад я наконец пересилил себя и отважился позвонить тетушке, старшей сестре мамы, ей исполнилось девяносто четыре года, — обратите внимание, на этот подвиг меня вдохновил наш с вами диалог. Надумал поговорить с последней свидетельницей стольких событий (замечу в скобках, и первой свидетельницей моего появления на свет: тетушка была акушеркой в Бени-Сафе в Алжире — перед родами мама вернулась в свой родной город). Но как только решишься, убедишь себя: «Не глупи, не бойся загадочных семейных преданий, белых пятен, трудных тем, смелее, поговори обо всем, узнай!» — как назло, оказывается, что ты поздно спохватился. Тетушка умерла за несколько дней до звонка, девятого марта, в далеком Мелуне (городишко в Алжире, рядом с Бени-Сафом), — и это очень печально.
Но ваш случай еще печальнее.
Думаю, вы понимаете, что история с немецким офицером, убитым двумя подпольщиками, которую вам рассказал отец, коротко обронив при этом «не стоит внимания», затронула в вас что-то очень существенное, и затронула самым пагубным образом, потому что вам ведь и не понадобилось больше никаких объяснений, вы их не захотели.
А это значит, что для вас перестала существовать разница между нацистом и мальчишками-подпольщиками.
Не важно, что защищают люди — «Свободную Францию» или бесчеловечный расизм, — их идеи в равной степени «не стоят внимания».
И значит, вы отрицаете и войны за правое дело. Когда грязное насилие торжествует и грозит уничтожить все человечество, приходится с ним сражаться, иного выхода нет. Да, мы не любим битв, дорожим покоем и миром, но с болью в душе, через силу, против желания нужно бороться и победить.
Тем самым вы смешиваете абсолютное зло — нацизм — и отчаянное сопротивление злу: подпольщики вынуждены прибегнуть к жестким мерам, они и себя не щадят, лишь бы положить предел страшной заразе. Выдвигая сомнительный лозунг (цитирую дословно): «Не доверяй любому, кто защищает истину с оружием в руках, какой бы ни была эта истина», вы походя валите в одну кучу басков-сепаратистов (хотя вам известно, что это безжалостные террористы, убийцы мирных жителей, враги настоящей демократии) и чеченцев (ведь вы, наверное, слышали, что они прибегали к терроризму в редчайших случаях, а против них развязана тотальная война с целью уничтожить весь народ; президент-кагэбэшник поклялся, что перебьет их всех до единого, «замочит в сортире» — это собственные слова Путина).
Простите, что поучаю вас, дорогой Мишель.
Я не должен вас поучать, вы и без меня все отлично знаете.
И все-таки опомнитесь, вы пошли дальше Гашека.
Дальше революционеров 1917 года и героев фильма Франческо Рози «Люди против».
Дальше гротесковой и трогательной неразберихи «Комедии Шарлеруа»[41] Дриё ла Рошеля.
Вы докатились до «глобального пацифизма» Жана Жионо. Нет надобности напоминать, что пацифизм привел автора великолепных произведений «Жан-новобранец» и «Король без развлечений» прямиком к коллаборационизму Петена, и в этом прослеживается неумолимая логика.
Надеюсь, вы понимаете, что вашего отца я ни в чем не виню.
Вполне допускаю, что существует тысяча объяснений его странному высказыванию: скромность, сдержанность, осторожность, стремление выгородить кого-то, — двойная игра конспиратора, как в фильме Рене Клемана «Благонадежный папаша». Меня это не касается.
Мне важно только ваше отношение к его рассказу.
Я глубоко потрясен выводами, которые вы из него сделали, вашим внутренним согласием с данной ему безнадежной и бесперспективной оценкой, а главное тем, что вы и сегодня делаете вид, будто это безразличие вас устраивает.
Можно служить искусству, дорогой Мишель, и все равно откликаться на зов Истории — вспомните Рембо, воспевавшего Парижскую коммуну.
Можно стремиться к совершенству, писать только о возвышенном и в то же время прислушиваться к стонам страдальцев. В ныне почти забытой статье «Конфликт»[42] Малларме, нисколько не изменяя поэзии, все же видит в железнодорожных рабочих, землекопах, братьев по неприкаянности и хотел бы, чтобы для «незрячего стада» засияли «точки света».
Можно, наконец, подобно Прусту, быть «писателем-флейтистом», по определению маркиза де Норпуа. Ощущать враждебность общества, мгновенно заболевать на «сквозняке предрассудков» и считать, что единственное достоинство внешнего мира — возможность переходить из одного «уютного дома» в другой. Все это не мешало Прусту безошибочно, с чуткостью радара улавливать, какова позиция собеседника в отношении дела Дрейфуса.