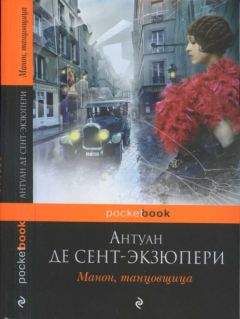Мы присели на койку, молча наблюдая его трудное пробуждение; этот человек карабкался из морских глубин, он сжимал кулаки, словно цепляясь за неведомые черные водоросли. Но вот, вздохнув еще раз, он снова ускользнул от нас, упал лицом в воду с отчаянием зверя, который не хочет, ни за что не хочет умирать и упрямо отворачивается от скотобойни.
— Эй, сержант!
Его опять вызвали из морских глубин, он вернулся к нам, и лицо его снова возникло в мерцании свечи. Но на этот раз мы поймали спящего: теперь-то он от нас не ускользнет. Его веки слипались, рот кривился, он провел ладонью по лицу, еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, непосильным трудом и леденящим холодом ночи. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так колокольчик в коллеже неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились каникулы, он весело бегал и смеялся вместе с другими детьми… Он пытается как можно дольше сохранить это призрачное счастье, старается окутать себя волнами сна, где он может чувствовать себя счастливым, но колокольчик все звенит и звенит и неумолимо возвращает его в мир человеческой несправедливости.
Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, — оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах, и груз снаряжения, а там — тяжкий бег к смерти, липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, клейкий сироп, застывающий смолой. Ощущаешь не столько самую смерть, сколько муки наказанного ребенка.
Один за другим он расправлял свои члены, подобрал локоть, вытянул ногу. Отягощенный ремнями, револьвером, подсумками, тремя гранатами, рядом с которыми спал, он с трудом выплывал из глубины на поверхность. Наконец он медленно открыл глаза, уселся на койке и взглянул на нас.
— А! Да… пора…
И он протянул руку за карабином.
— Атаку отменили.
Сержант Р., я свидетельствую: мы даровали тебе жизнь. Именно так. Возвратили ее сполна, словно у подножия электрического стула. И уж не знаю, можно ли описать словами, сколь возвышенно это помилование у подножия электрического стула. Но ведь мы в самом деле даровали его тебе in extremis, потому что в твоем представлении между тобой и смертью осталась лишь тоненькая перегородка. Прости мне теперь мое любопытство: я посмотрел на тебя. И я никогда не забуду твое лицо. Трогательно некрасивое лицо с крупным горбатым носом, лоснящимися скулами и интеллигентским пенсне. Как принимают дар жизни? Сейчас расскажу. Человек сидит на койке, вытаскивает из кармана табак и качает головой, разглядывая пол. Потом говорит:
— Ну что ж, тем лучше.
Опять качает головой и добавляет:
— Вот если бы прислали нам подкрепление, бригады две-три, тогда стоило бы затевать атаку, и тогда бы ты увидел такой энтузиазм…
Сержант, сержант… как ты распорядишься дарованной тебе жизнью?
Сейчас ты макаешь хлеб в кофе, мирный сержант, ты сворачиваешь цигарки, ты похож на ребенка, которого избавили от наказания. И все же ты готов этой ночью вместе с товарищами снова проделать эти несколько шагов, после которых остается только встать на колени. И у меня из головы не выходит вопрос, который со вчерашнего дня я все хочу тебе задать: «Сержант, почему ты готов умереть?» Но я знаю, этот вопрос невозможно произнести вслух. Он затронул бы твое целомудрие, о котором ты и сам не подозреваешь, но которое было бы оскорблено. Как бы ты ответил? Стал бы говорить громкие слова? Но они показались бы тебе фальшивыми. Они и на самом деле фальшивы. Есть ли у тебя слова, чтобы выразить свою сущность, у тебя, такого застенчивого? Но я решился узнать и преодолею затруднения. Я стану задавать тебе маленькие, ничего не значащие вопросы…
— В сущности, почему ты сюда пошел?
В сущности, сержант, если я правильно понял твой ответ, ты и сам этого не знаешь. Счетовод где-то в Барселоне, не интересуясь политикой, ты выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала начавшаяся борьба. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости, твои мечты, твоя работа — все это словно отошло в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо было отомстить, но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал:
— Пошли?
— Пошли.
И вы пошли.
Ты даже не удивляешься этому властному зову, толкнувшему тебя сюда. Ты принимаешь истину, которую ты не умел высказать словами, но которая завладела тобой. И пока я слушаю этот простой рассказ, на ум приходит мысль, которую я еще держу про себя.
Передо мной возникает образ.
Когда наступает пора диким уткам или гусям лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле странная волна. Домашние птицы, словно магнитом притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и беспомощно хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пронзив их стрелой, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины — ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных просторов. И утка мечется за своей проволочной загородкой, охваченная этой внезапной страстью, не ведая, куда она ее влечет, этой безбрежной любовью, предмет которой она никогда не узнает.
Так и человек, захваченный неведомым ему доселе откровением, обнаруживает всю тщету и своей скромной профессии, и своей тихой домашней жизни. Но имени этой высокой истины он не знает.
Чтобы объяснить подобные порывы, говорят о потребности бегства или о жажде опасностей, как будто не сама эта жажда опасностей и не эта потребность бегства прежде всего и требуют объяснения. Говорят еще о голосе долга, но почему этот голос становится вдруг таким властным? Что же ты понял, сержант, когда мир твой был нарушен?
Призыв, всколыхнувший тебя, несомненно, волнует всех людей. Как бы ни назывался этот голос — жертвенностью, поэзией или приключением, — он все тот же. Но в нашей безмятежной домашней жизни мы оказываемся глухи к этому голосу. Мы только вздрагиваем, беспомощно хлопаем крыльями и остаемся в своем курятнике. Мы рассудительны. Мы боимся выпустить нашу маленькую добычу ради большого неведомого. Но ты, сержант, ты изобличаешь во всем его уродстве это существование лавочников, их ничтожные удовольствия, их ничтожные потребности. Это — не человеческая жизнь. И ты подчиняешься великому зову, не понимая его. Час настал — ты должен вылинять, ты должен распахнуть крылья.
Домашняя утка и не подозревала, что в ее крохотной голове могут уместиться океаны, материки, небеса, — и вот она хлопает крыльями: что ей зерно, что ей червяки, — она хочет стать дикой уткой…
Когда морским угрям приходит пора вернуться в Саргассово море, их невозможно удержать. Они ползут по полям, повисают на изгородях, разбиваются о камни. Они ищут реку, ведущую к бездне.
Так же и ты чувствуешь, что тебя захватил этот внутренний перелет, о котором никто и никогда тебе не говорил. Ты готов к этому неведомому тебе празднеству, и на вопрос: «Пойдем?» — ты отвечаешь: «Пойдем!» — и ты пошел. Пошел на войну, о которой ничего не знал. Ты отправился в путь по внутренней необходимости, как эти серебристые твари, что блещут в полях на пути к морю, подобно черному треугольнику в небе.
Чего ты искал? Этой ночью ты был почти у цели. Что ты открыл в себе, что в тебе созрело и готово было родиться? На рассвете твои товарищи жаловались: чего они лишились? Что они открыли в себе и вынуждены теперь оплакивать?
Что мне в том, испытывали они этой ночью страх или нет? Что мне в том, надеялись ли они, что потопление корабля будет отменено? Пусть даже они готовы были бежать. Они ведь не убежали. Они ведь согласны ближайшей же ночью начать все вновь. Случается, встречный ветер относит стаю перелетных птиц в океан. И океан становится слишком просторным для их полета, и они уже не знают, достигнут ли противоположного берега. Но образ солнца и теплого песка в их маленьких головках помогает им продолжать полет.
Каковы же те образы, сержант, что управляли твоей судьбой, ради которых, по-твоему, стоило рисковать жизнью? Твоей жизнью — единственным твоим богатством? Надо долго жить, чтобы стать человеком. Сеть привязанностей и дружб сплетается медленно. Медленно учишься. Медленно создаешь свое творение.
Слишком ранняя смерть равносильна грабежу: чтобы осуществить свое жизненное призвание, надо жить долго.