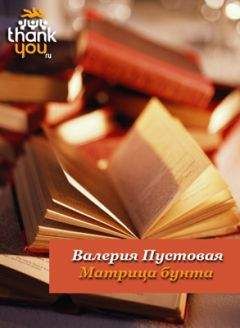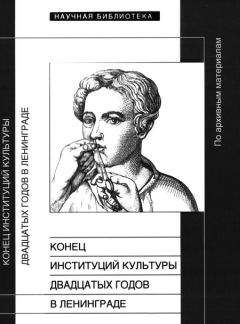Жена Николая Елтышева, мысленно перекладывающая его вину на других: «Известно же, как журналисты милицию ненавидят, а среди пострадавших оказался их коллега. Вот и раздули…» Его младший сын, ставший преступником по бездумью, от небрежения своей и чужой жизнью. Старший, Артем, важнейшие поступки совершающий безвольно, по наущению или инерции. Его захваченная женской тоской, захватанная невеста, переставшая различать границы любви и распущенности. Сосед Харин, желающий сохранить достоинство, живя обманом. Деревенский участковый, отчаявшийся отделить жертв от преступников и сознательно не мешающий Николаю Елтышеву: «Я понимаю вас и раньше понимал…» Наконец, повальное пьянство в деревне — такой же образ самозабвения, бегства в дремоту, сна души как прижизненной смерти: «Спасались спиртом. Не допивались до бесчувствия, но и не давали себе протрезветь. Боялись».
Импульс пробуждения достигнет в финале сердца Валентины Елтышевой, которую автор одну оставит — обдумывать судьбу ее семьи.
Нравственная безоружность человека перед бедой показана в романе, но в нем не может быть исцелена. Источник высшей правды, которая осветила бы события романа, тщетно искать. Взявшись как будто максимально объективно исследовать реальность, автор раздражает читателя отсутствием авторской воли, которому в философском смысле соответствует молчание воли Божественной. Не веря в высший суд, автор не берется от своего лица разбирать дела героев — для Сенчина это значило бы совершить идеалистический подлог.
Но незримые законы души, отображенные в его прозе правдиво и непредвзято, сами свидетельствуют о неизбежности воздаяния — совсем иного рода, чем то, на какое уповал Николай Елтышев. В этом — вывернутый религиозный инстинкт писателя, который наделен истовым отторжением от тленного, видимого, скоромимоходящего — и при этом лишен веры в его вечную незримую альтернативу. Отсюда зависшая между небом и землей, беспочвенная, отрицательная духовность его прозы, преодолевшей вещь, но не взыскавшей Бога.
Поэтому, хотя морали в романе нет, он написан на прочных нравственных основаниях. Выход автор не нашел — но в тупике выставил впечатляющий знак.
(Опубликовано в журнале «Новый мир»., 2009. № 12)
Критика писателей как вид утопической литературы
И как же многозначно слово — «писатель»! В самый раз для визитки. «Товарищ изящная литература», как сказано в старом фильме «Небесный тихоход» — об авторе газетных репортажей. Тот случай, когда демократизация титула раздувает его объем в ущерб весу. Пример того, как равенство торжествует за счет индивидуальности.
Многоглавое существо «писатель» выведено из толпы иных существ свободных профессий за ручку. Ручку, диктофон, клавиатуру. Но внешняя классификация по орудию труда — слову — не должна помешать нам разобраться в многочленном теле «писателя», отделить его опоры от возвышенностей, а то вот-вот упадет. Будучи поставлен сообразно закону равновесия, «писатель» обнаруживает в самом себе иерархию частей. Макушки его избирательно коронованы званиями поэта, неисчислимые же ноги того и гляди бросятся врассыпную по раздольному поприщу журналистики.
Идея иерархии писательских дарований (по ступенькам вверх: журналист — критик — публицист — прозаик — поэт) состоит не только в том, что каждому из уровней соответствует особая прихотливость вложенного в одаренного человека тонкого механизма творчества. Так что если твердо стоишь на разных ступенях, все равно доминировать по опорности будет только одна, нивелируя расстояние, а значит, и размывая индивидуальность жанров. Эта иерархия предполагает как будто и логику свободного нисхождения — по направлению убывания созидательной мощи дара. Погруженный в сферу предформенного, несказуемого, стихийно-звукового, предел конкретизации которого — отвлеченно-формальные, досознательные сущности ритма и созвучия, поэт как будто с легкостью должен управляться с конкретностями оформленного, живого мира. А прозаик, набивший руку на вылавливании образов из бурления живого, может как от нечего делать оживить мертвые факты их образным воплощением в очерке.
Итак, мы спокойно спускаемся, ожидая отличной прозы от поэта и превосходной публицистики от прозаика. И тут… упираемся в новую лестницу наверх.
Дело в том, что, нарушая логику схемы, критический дар вовсе не является продолжением дара писательского. Чтобы впредь не запутываться и не выслушивать обвинения в том, что мы выводим критиков из писательских рядов, уточним: критик, конечно, писатель, но не из тех, кого синонимично называют «художниками». Критик по самой природе своей натуры лишен возможности живописать — писать живое. Критика выносит на как бы вторичные ресурсы вдохновения: его волнует то, что когда-то первично вдохновило другого. И если даже живое явление, к примеру, вживую увиденное дерево, манит его к разгадке своей тайны, «чистый» критик овладеть этой тайной самостоятельно не сможет. Для него живое дерево недоступно, как вещь в себе. Ему требуется вещь-в-Другом. Кем-то уже понятая тайна живого.
Критический дар, будучи обнаружен у писателя, не столько поддерживает горение писательского таланта, сколько сопротивляется ему, стремится его исключить. Таким образом, наш замысел основан на контрапункте. Первое наше желание — понаблюдать, как ведет себя писатель того или иного толка в мертвом для него пространстве аналитических сущностей.
Но это любопытство, конечно, не главное. Потому что, вынужденный к критическому высказыванию, писатель не только так или иначе извращает, подделывает под себя задачи критики, но и углубляет их, то есть становится критиком в наивысшем смысле!
Ведь каково высшее выражение критики? Помимо адекватного восприятия и понимания Другого в литературе, помимо умения трактовать и препарировать, разлагая уже и так не первой живости явления текста на еще более мертвые элементы идей и приемов, — помимо, в общем, всего того, что должно быть доступно всякому среднему рецензенту, в критике есть своя собственная задача, никак не связанная с познанием Другого, служением чужому тексту. Именно исполнение этой задачи отличает критиков, так скажем, большого стиля. Это — построение собственного мира, подобно тому как писатель создает индивидуальный художественный мир. В своей сфере аналитического критик строит мир не художественный — мир идей. Мир идей критика основан не на образности — на его вере. Поэтому, когда сомневаются в праве критика высказывать свое представление о должном (то есть, согласно мировоззрению критика, идеальном) — в литературе или в жизни, — когда сводят его роль до объективного, то есть максимально безличного, переложения произведений писателя, тогда саму суть критики искажают до обессмысливания.
Итак, критика в высшем смысле — это исповедание утопии, преданность идеалу, который дорог не столько возможностью своего воплощения, сколько самим существованием в личности критика.
Поэтому нет сомнения, что если писатель берется за критику, то именно за критику в высшем смысле: он делает это по сознательному или интуитивному желанию обрести в статьях и рецензиях способ впрямую заявить о своей вере. И очевидно, что идеи в критических статьях писателя выявляют уже в его художественных текстах наиболее принципиальные, дорогие ему мысли и образы. И это мы тоже попробуем — сопоставить основы художественного и идейного миров писателя.
Критика писателя и в самом деле разновидность утопии. Она создается им как выражение идеальных, абсолютных образов — самого себя, критики вообще, своего читателя и литературы. В критике писатель обнажает стены своего утопического Китеж-Града, дотоле затопленного образной глыбью прозы (Олег Павлов), прозы и поэзии (Дмитрий Быков), прозы и эссеистики (Кирилл Кобрин). Стараясь не зацепиться за кресты демонстраций и крыши очевидностей у самой поверхности вод, донырнем ли до фундамента найденного Города?
Литературный Павловск
Книга Олега Павлова «Антикритика. Литература глазами писателя» («Книжный мир», Пермь, 2005) опирается на принципы, которые читатель может понять исключительно путем индивидуального духовного прозрения. Несмотря на воинственную, взывающую, почти трубную тональность самых принципиальных высказываний Павлова о литературе — его критика не рассчитана на широкую аудиторию, закрыта от непосвященных. Читатель при попытке проникнуть в мир современной критики чаще всего спотыкается о порог образовательного ценза. Но в случае Павлова механическим привесом знаний и языковых формул за вход не расплатиться.
Рациональное, механистическое препарирование литературы вообще чуждо Павлову. Он нарочно бережет в себе познавательную невинность — простодушное неведение о том, как живет бог его словесности. Простодушным такой подход к литературе выглядит теперь, в эпоху победившей инструментальности: чем текст отопрешь, то и получишь, и открывшееся благодаря единственно подходящему к дверце золотому ключику признают равноценным тому, что добыто с помощью лома. Павлову ближе мистический путь постижения — через вчувствование в неслучайность, «неотвратимость» реалий текста. «Знать — это еще не значит понимать. <…> Есть вещи духовного свойства, которые ни в истории, ни в теории отложиться не могут — как не оставляет никаких следов полет».