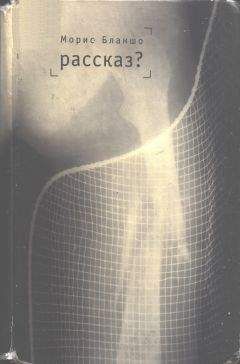Как понимать эту перекрестную гиперссылку в творчестве Марии Степановой, берущую под прицел не просто идиому того или иного поэта, но «мужскую» идиому в ее детской непосредственности, чтобы не сказать типичности? Как истолковать явно «бродские» интонации и мотивы в стихотворении Евгении Лавут «То ли девочка я то ли мальчик…» (но также и в других, не столь откровенных)? Наконец, что артикулирует, сочленяет через вывих и перифразу того же Бродского строка Анны Горенко что до жизни то оказалась женской? – Если предположить, вслед за Ильей Кукулиным, что эротические языковые стратегии и «тела» не только «отчуждены от авторского сознания и могут быть рассмотрены несколько со стороны, как чужие люди, или как играющие дети, или персонажи сна, или куклы», но что одновременно они «неразрывно, кровью, связаны с авторским сознанием»?
Здесь возможно несколько плодотворных подходов. Но прежде чем их обозначить, необходимо коснуться проблемы «поколения 90-х». Илья Кукулин справедливо замечает, что порождение «фиктивных эротических тел авторства» было свойственно и другим эпохам, в том числе, добавлю, ближайшим к нам. Здесь следует назвать, в первую очередь, Эдуарда Лимонова эпохи «Эдички» (при разговоре о котором важно помнить о гротескных языковых аномалиях в его стихах 1960 – 1970-х), Елену Шварц и Александра Миронова, главным образом программный цикл последнего «Осень андрогина» (1978) с его замыканием языка (поэзии) на фигуру телесного (однополого) соития:
– Кто вы, – спросит, – двойная скверна?
Мы ответим Ему: наверно,
Мы – Ничто, словесная сперма:
Роза и сыпь сирени.
Он же скажет нам: Звери знают —
Так букеты не составляют <…>
Одна из постоянных тем Александра Миронова – «смесительная связь» поэтической традиции и индивидуального языка, который в одном из стихотворений он называет «медиумическим духом травести». Связь, разоблачительно сопрягающая, не без гностических коннотаций, оба (телесное и лингвистическое) значения слова «язык» или «письмо» (в традиционном смысле послания и в смысле «Нулевой степени письма» Ролана Барта):
Какое длинное письмо
растет себе само!
Как бы из чресел эскимо —
попробуешь – дерьмо.
Апофатический намек,
хрящ мировых мощей,
соль бытия, письма предлог
и поясничный змей —
как ни зови – авторитет,
желанье, божество,
само дыхание… О, нет! —
условие его —
нет имени: пятно, пятно
на бледном полотне.
Творение растворено
в смесительном огне.
(«Писать, закрыть глаза, писать», 1981–1982)
Есть у Миронова и предельно «жесткие» верлибры (цикл «Кинематограф» середины 1980-х), предвосхищающие стратегии очень и очень разных авторов, среди которых я бы назвал Дмитрия Волчека, Сергея Круглова и Ярослава Могутина, а также «белый» шум сетевой поэзии, отчасти и вынудивший, видимо, некоторых из этих сильных и самобытных поэтов замолчать или сменить (эстетическую) ориентацию:
педерастическая склонность эйзенштейновского топора
в последний раз
прильнуть казенным поцелуем к шее казнимого
в последний раз
облобызать и растлить обреченное на уничтожение
последний раз
всем колхозом напялить на себя ризничные одежды
все равно ведь пленку потом сожгут
в приступе ностальгии
останется Черкасов с неизменным солопом в деснице
взбесившаяся коляска с ребенком
пролетарский Апис эмигрировавший в «мир Феллини»
музыка Прокофьева слова Луговского
Соединение «казенного поцелуя» и «казни» заставляет вспомнить поэта более отдаленной эпохи, также малоизвестного, но крайне важного в контексте нашего разговора, а именно Андрея Николева (Егунова), превратившего языковое шутовство и травестию в метод «вскрытия и уловления метафизики, таящейся в недрах языка»[70]. Его фрагментарная, исполненная сарказма, иронии, полисемии и двусмысленных гомоэротических фигур поэзия звучит остросовременно.
Этот беглый по необходимости экскурс в «андрогинную» по преимуществу поэзию (тут стоит, конечно же, вспомнить и Михаила Кузмина, и – противоположный случай – развоплощающие любую субъективность, проникнутые отчаянием и мизогинией тексты обэриутов), тематизирующую родовые признаки «фиктивных тел авторства», подводит меня к выводу, что в 90-х произошел некий скачок, количество, так сказать, перешло в качество. (Как в гегелевской диалектике господина и раба, где именно раб, через принудительный труд и отчуждение, творит в конечном счете историю[71].) Скачок, отчасти совпавший, а отчасти вызванный социально-культурной трансформацией конца 1980-х – начала 1990-х годов и выдвинувший целый ряд поэтов-«женщин», в творчестве которых с небывалой доселе силой и остротой звучит традиционно «мужская» проблематика самотождественности субъекта. Сказанное отнюдь не означает, разумеется, что в 90-х не появилось значительных поэтов-«мужчин». И тем не менее такое ощущение, что к «голосам» этих поэтов – Станислава Львовского, Александра Анашевича, Михаила Гронаса, Григория Дашевского, тех же Дмитрия Воденникова и Василия Ломакина – примешивается что-то неуловимо «женское». И наоборот, у Александры Петровой, Анны Горенко, Елены Фанайловой, Марии Степановой, Евгении Лавут, Анны Глазовой, Ники Скандиаки, Марианны Гейде, Натальи Курчатовой и многих других отчетливо прослушивается «неженский», мягко говоря, тембр. (Я сознательно заключаю в скобки продолжающих активно работать Ольгу Седакову, Елену Шварц, Елизавету Мнацаканову, Татьяну Щербину и других поэтов-«женщин» старшего поколения, поскольку их поэтика сложилась в основном в другую историческую эпоху и требует отдельного рассмотрения.)
какое тело женское
ужасно не введенское
Александр Введенский
Так как же все-таки трактовать этот «мужской» субстрат в «женской» поэзии? Да никак, скажет иное «фиктивное тело авторства». И будет, в известном смысле, право. «Нет никакой “женщины”, никакой истины в себе относительно женщины в себе… нет никакой истины в себе относительно полового различия в себе, мужчины или женщины в себе» (Жак Деррида). Есть письмо, текст; пишущий по природе (письма) двупол, андрогинен, так или иначе «фиктивен». И тем не менее там же, в эссе «Шпоры: стили Ницше» (а в текстах Ницше множество стилей, не меньше, чем матерей, дочерей, сестер, старых дев, жен, гувернанток, проституток, девственниц, бабушек, девиц маленьких и больших, мифологических и немифологических Ариадн, Менад, Лу, Саломей, Козим, и каждую найдется чем пришпорить либо получить ответный удар отточенным стилетом или стилом), Деррида уточняет: «Тем не менее всякая онтология (и поэтика в смысле отрасли знания, дисциплины, добавим мы. – А.С.) предполагает и скрывает эту неразрешимость; она есть эффект каталогизации <arraissonnement: “досмотр судна”>, присвоения, отождествления и верификации тождества этой неразрешимости»[72]. Отсюда и режим кавычек, сопровождающий здесь и сейчас, в этом тексте, «женщину» и «мужчину». Режим, насильственно отменить который способны разве что идентификация и присвоение стоящего за подписью, скажем, «Анна Горенко» эмпирического тела «Анна Карпа» (1972–1999) с его земной биографией. Это один путь, путь, условно говоря, историко-биографической поэтики и школьных учебников. Другой, не менее плодотворный и богатый на открытия, будет заключаться в «диалогическом», интертекстуальном методе. Так, в стихотворении «Тело за мною ходило тело» мы оперативно вычленим отсылки к Мандельштаму, сразу к нескольким его ранним (эпохи «Камня») вещам. Сгруппируем эти аллюзии вокруг «Дано мне тело – что мне делать с ним…», разворошим всё гнездо «детского локуса», столь актуального для тематизирующей «телесность» поэзии 90-х; и полакомимся игрушечными волками, детскими книжками, целомудренными чарами хрупких подростковых тел, звериной душой, снежным ульем и возвращающимся в доисторическое лоно – Афродиты ли, морской пены или музыки – Словом. Тут недалеко и до грота Ариадны, отдирающей от скалы и преподносящей Тесею букетик кал. Что делает здесь Лота, я, право, не знаю, надо бы спросить Минотавра.
Третий – поход в духе «страха влияния» Гарольда Блума, в поисках утраченного, а на деле запрятанного глубоко в ткань текста «сильным предшественником», причем запрятанного настолько надежно, что смятые складки и простыни (мандельштамовский интертекст) могут обернуться всего лишь ловушкой, в которую обязательно попадется наивный читатель. «Наивный» в данном случае значит «не сведущий в теории Блума», выделившего и описавшего шесть стратегий такого хитроумного укрывания отцовской (всегда почему-то отцовской) фигуры[73], направленных на то, чтобы переиграть сильного, канонического предшественника на его же поле, но своим, выкованным в соперничестве оружием. Это сложный, прямо-таки обезнадеживающий путь, особенно если представить, сколько же уловок и обманных ходов надо держать в голове, помимо начетнического знания классического корпуса текстов. Здесь-то нам и может понадобиться тень Бродского, промелькнувшая в жизни что оказалась женской. Это длинная тень, не только аккумулирующая в себе колоссальный символический капитал, но и способная в одиночку представительствовать за культурный порядок, царящий в нашем недатском королевстве[74]. Не странно ли, что, в отличие от старших и младших коллег, нередко интонационно и риторически попадающих в резонанс с певцом Урании (и того не скрывающих), у Горенко это – едва ли не единственное громкое оспаривание (универсальности) Бродского?