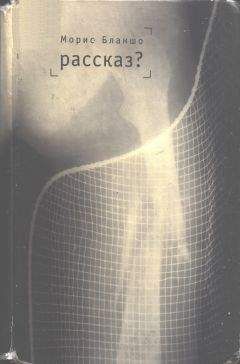Итак, в первом приближении, три эти сферы – «этическое», «эстетическое», «политическое» – нераздельны, но неслиянны. Конфигурация жеих взаимоотношений («порядок взаимодействия») всякий раз должна устанавливаться исходя из логики самого произведения и из того контекста, к которому оно отсылает.
Первое слово здесь, как и во всем остальном, за произведением. Но далее вступают в силу позиция и интенции читателя (критика, интерпретатора). Которого здесь и сейчас, в силу тех или иных обстоятельств, могут интересовать, например, не формальные структуры и не соотнесенность данного конкретного произведения с литературным рядом, а социальная или иная симптоматика. Известны примеры, и примеры впечатляющие, когда литературное произведение служит в первую очередь материалом для анализа общественных процессов и исторических сдвигов. Таково исследование «Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма» Вальтера Беньямина. Новизна и актуальность этой работы, помимо прочего, в том, что она позволяет вырвать Бодлера из реакционной на тот момент (1930-е годы) парадигмы «чистого искусства» и переосмыслить саму эту парадигму под углом товарного фетишизма: «абсолютное произведение искусства» как абсолютный товар.
Однако если с самого начала мы говорим об общественных процессах, а не о литературе (или поэзии: начиная с Рембо западноевропейская поэзия враждебна «литературе» как социальной институции), то понятно, что эстетическая функция уже безусловно отступает на второй план – даже в уточненном ее понимании: например, если говорить о генетической ее связи с политикой и антропологией. Тем не менее тот или иной поворот такого разговора может вводить фигуру «эстетизации политики» или других «эстетизаций» как инструмента управления и контроля. Сегодня усиленной «эстетизации» подвергаются городские пространства: вчера еще заброшенные или ничейные, общественные места скупаются, приватизируются, ограждаются; появляются охрана и камеры слежения. Все это делается под лозунгом обустройства и заботы о красоте (т. е. «эстетике»), но на самом деле вписывается в логику исключения и контроля. Барон Осман во второй половине XIX века тоже перестраивал Париж, следуя определенным эстетическим критериям и урбанистическому идеалу; в то же время еще одна цель работ, которые он проводил (среди прочего они включали в себя расширение улиц и прокладку кратчайших путей от казарм к рабочим кварталам), заключалась в том, чтобы обезопасить город от гражданской войны. Он хотел, чтобы баррикады навсегда стали невозможны в Париже[56].
2. Искусство, поэзия, литература, если они не подлаживаются к рынку, к господствующим вкусам и трендам, как раз и совершают такое переопределение или перераспределение, но в «свернутом» виде, имплицитно. Задача критики – подхватить этот импульс, эксплицировать и в известном смысле переписать, увязав с всегда проблематичной, всегда ускользающей от схватывания «реальностью». Чувственный опыт она должна претворить в умопостигаемый. Дать реальности, или ее сущностной черте, или диспозиции, имя. Это редкая удача.
На нынешнем этапе за «этикой» вполне может скрываться идеология (в случае пресловутого «этического поворота» она даже и не скрывается: см. по этому поводу «Этику» А. Бадью и «Этический поворот в эстетике и политике» Ж. Рансьера)[57]. Потому к обозначенному выше триединству, сознавая, что каждая из его составляющих не является «чистым» ликом, но, скорее, личиной, – необходимо добавить экономику, точнее – политэкономию как анализ торговых механизмов господства и рыночной идеологии, этого Левиафана в овечьей шкуре.
Политика также нуждается в переосмыслении. «Политика» как политтехнология, то есть манипуляция «непросвещенными» массами со стороны элиты или правящего класса (иногда обозначаемого эвфемизмом «политический класс»), отвратительна. Это тупик, предательство человечности человека, экспроприация его свободы под предлогом его якобы неготовности эту свободу вынести. (Сюжет Великого инквизитора – радеющего, само собой, о пастве.) Политика как революционное становление «снизу» – это шанс. «Единственный шанс для людей – в революционном становлении, которое только и может погасить их стыд, ответить на невыносимое»[58]. Такое смещение акцентов поможет если не заново концептуализировать, то прикоснуться к «стоящей за этими терминами» реальности, пронизанной противоречиями не меньше, чем понятие «эстетика». Что плавно подводит меня к стихотворению Елены Фанайловой.
3. Это вариация на тему «поэта и толпы», но также и на тему «нечистой совести» («притворства»). Отсылка к Пушкину – «Ты сам свой высший суд» – сбивающий со следа, но все же след. Жреческая, аристократическая позиция Пушкина, и противостоящий ей в лице «черни» утилитарный подход к искусству – в равной степени неудовлетворительны. Это ложная дилемма. Две Лены, две: по обе стороны от прилавка. Надо показать, как работает эта зеркальная схема, этот перевод стрелок на ветке Москва – Воронеж, Воронеж – Москва, в которой поэт узнаёт условия своего существования как наемного работника. «Нечистая совесть» – родовое пятно «интеллигенции», или «культурного класса», оставленное разделением труда. Нет такого документа культуры, который одновременно не являлся бы свидетельством варварства. Или, по словам Мишеля Гареля: «Лувр, наряду с другими музеями, содержит сумму ужасных страданий»[59]. Потому нужно показать еще и «работу родной речи» (и как устроено это производство: издательскую кухню, систему распространения, и «актерское блядское желание нравиться», и даже режущую слух претензию «быть другим, другой, другими», выложить все это вместе с джин-тоником и сигаретами на прилавок). Ключевой пункт стихотворения, подготовленный описанием ночного общения с китайскими рабочими в поезде, – финал предпоследней строфы: кем она, Лена-продавщица, работала в прошлой жизни? Инженером? Библиотекарем? В этой коде окликаются все те, кто в 90-х – гурьбой и гуртом – оказался на грани пролетаризации. В свое время Маркс увидел в зарождающемся пролетариате родовую универсальную сущность человека, его проституированную, овеществленную человечность. Но то было в прошлой жизни. Теперь они «просто» люди. Лена и люди. Включаем ли мы в их число китайских рабочих? Продавщиц? Поэтов? Делим ли последних на тех, кого показывают по телевизору, и тех, кого не показывают? Некоторые из них смотрят сейчас канал «Культура», выходят покурить, поболтать с охраной. Перевести дух, пока переводят стрелки на ветке Москва – Воронеж, Воронеж – Москва.
Сильнее Урана
О «женской поэзии»[60]
Ксения три дня отлежала на гробе,
Встала сильнее урана.
Елена Фанайлова
Около года назад произошло событие, заставившее меня по-новому посмотреть на некоторые вещи в себе и окрест. Михаил Юдсон и покойный Александр Гольдштейн прислали мне в рамках проекта «Взгляд свободного художника» ряд вопросов на предмет современной поэзии (и прозы тоже)[61]. В завершение они просили назвать «наиболее интересных вам в последние годы пишущих людей». Ничтоже сумняшеся я назвал Кирилла Медведева, Аркадия Драгомощенко, Дмитрия Голынко-Вольфсона, Василия Ломакина и Леонида Шваба, резонно решив, что мои не столь давние предисловия к книжкам Сергея Завьялова и Шамшада Абдуллаева говорят сами за себя. Отослав ответы по электронной почте, я спохватился. Почему я не назвал ни одной женщины? Это я-то, переводивший Сьюзен Хау, Эйлин Майлз, Кэти Акер, Гертруду Стайн, считающий одним из главных текстов XX века «Боль» Маргерит Дюрас? Я, влюбленный в поэзию Елены Шварц и Елизаветы Мнацакановой, одну из первых своих рецензий посвятивший Ольге Седаковой и обеими руками голосовавший за вручение Премии Андрея Белого в 1999-м Елене Фанайловой? Это «почему», подразумевающее вполне недвусмысленный – в свете феминистских теорий – ответ, тем более болезненный, что в принципе я согласен с их (теорий) основополагающим тезисом о мужском доминировании, потянуло за собой другие, не столь очевидные[62].
Например, почему при слове «художница» никто не хватается за пистолет, тогда как «поэтесса» звучит с явно уничижительным оттенком? Откуда, как давно возникла эта асимметрия между словоупотреблением в современной поэзии (и литературной критике) и contemporary art, где считается нормой говорить о «женском взгляде», «женском письме», вообще о «женском» в его отличии от «мужского»? Почему я, и, наверное, не я один, спотыкаюсь, прибегая, когда необходимо обобщить, к кавычкам и/ или неуклюжим конструкциям? Почему по-английски выражение women poets или women writing не режет слух, а их русские кальки воспринимаются как в лучшем случае эвфемизм? Как вообще маркируется пол/род в нашем языке и какой гендер за этим, пардон, стоит? Почему же сами женщины первыми протестуют против идентификации их как женщин (поэтесс)? Почему Анна Глазова и Ника Скандиака прибегают к модальностям, не позволяющим однозначно определить пол пишущей/пишущего? Почему у Анны Горенко, Александры Петровой, Евгении Лавут, Марианны Гейде и многих других субъект высказывания, лирическое «я» (не путать с персонажным «я» баллад Марии Степановой, хотя сам факт использования ею брутальной мужской речевой маски тоже наводит на размышления) с подозрительной частотой выступает в мужском обличье, как в характерном, парадигматическом для 1990-х стихотворении Горенко «Тело за мною ходило тело»: