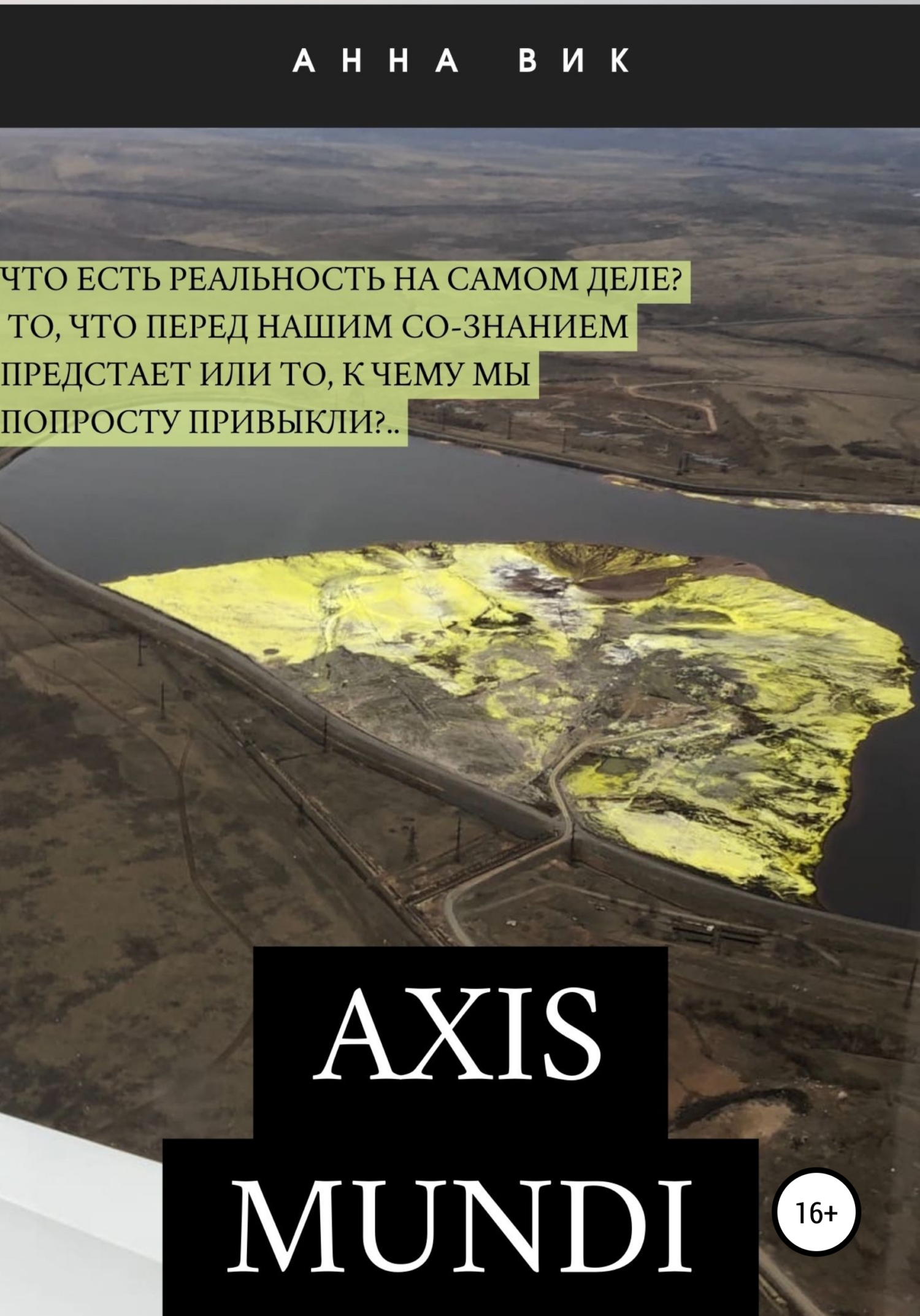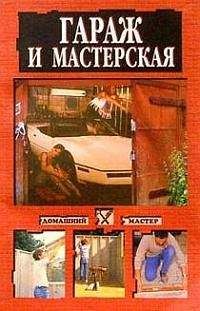на жест, звук, пантомиму и танец станет, возможно, первым, почти рефлексорным движением к преодолению литературоцентризма и спецификации театрального медиума [143].
Так, программа Всеволода Мейерхольда до революции примерно сводится к предпочтению темпа, импровизации, даже прихотливости на уровне телодвижения, которому должны подчиняться голосовые действия и, следовательно, текст. Если это можно считать победой над знаком [144], то параллельно молодые авангардисты ставят «Победу над солнцем», которая осуществляется скорее под эгидой слова как такового. Говоря позже об искусстве как приеме, Шкловский будет называть определяющим мастерство трюков и импровизаций, а формализм в целом будет часто обращаться к театральной фразеологии. И наоборот: близкие к формализму режиссеры пользуются его лексиконом. Сергей Эйзенштейн говорит, что задача аттракциона – выводить из автоматизма [145]. Будь то для срывания всех и всяческих масок или просто ради перцептивного эффекта, пока всякая передозировка искусственностью может разворачиваться только на специально отведенной сцене. Революция же предоставит интеллигенции возможность значительного преодоления границ условности, из-за чего ей в конечном счете придется отказаться и от собственных культурных привилегий.
Рождение трагедии из духа материального дефицита (1917–1920)
Кино может быть и станет главным из искусств, но несколько позже, а в эпоху военного коммунизма им оказывается уличный театр. В условиях материального дефицита приходится переориентироваться даже такой камерной практике как писательская: авторы чаще всего представляют свои произведения устно, то есть перформативно, что заставляет их все больше обращаться к малым и сценическим жанрам [146]. Часто, собственно, непонятно, выступают ли все новые возникающие театры на улице принципиально или из-за разрухи и безработицы. Кроме прочего, оказываясь на улице, театр де факто становится бесплатным, чего, в свою очередь, добивалось движение за народный театр, в том числе чтобы разорить частные – они же буржуазные по репертуару.
В этой ситуации и начинает оформляться агитационный авангардный театр. Мейерхольд призывает к «театральному Октябрю», но уверен, что искусственностью поступаться агитационный момент не обязывает. Для этого часто берутся уже готовые пьесы и переписываются в более прямолинейном и менее многословном ключе, в них добавляются трюки и больше действия (как будет в одном из рассмотренных ниже примеров). Это позволяло театру еще оставаться экспериментальным и уже становиться народным. Этому противостоит разве что коммерческий театр – причем, не только своими буржуазными сюжетами, но и самой убаюкивающей формой [147]. Экспериментальный же театр не против буффонады и карикатуры (на буржуазию), но ему сложнее стать героическим и мистериальным, как того все чаще начинают требовать старые вагнерианцы Горький и Луначарский.
«Снова проиграть эту ситуацию»: эстетический штурм Зимнего или театр массового поражения (1920)
По мнению пролеткультовского активиста Керженцева, театр вырастает из самой преображенной революционной повседневности, и с этим согласились бы многие участники событий, включая Шкловского: «Главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством» [148]. Аналогичным образом как минимум эти двое сходились на том, что «становиться профессионалом окончательно не нужно» [149], а будущий зритель должен будет говорить не «иду смотреть», а «иду участвовать в такой-то пьесе» [150].
Все эти витающие в воздухе интуиции сходятся в знаменитом «Взятии Зимнего дворца», поставленном Евреиновым на трехлетний юбилей революции [151]. Как и в случае уличного театра первых революционных лет, диалогов в таком театре быть слышно не могло, и интрига разворачивалась скорее пространственно, а не драматургически. Чтобы показать угнетенных реалистично, приглашались рабочие из драмкружков (собственно сами угнетенные), а для сатирического и гротескного изображения угнетателей уже требовались профессионалы (в чем также имелись некоторые биографические пересечения с играемыми ролями). Первые участвуют в массовых сценах без грима, а вторым достаются более выразительные и индивидуализированные роли (не лишенные элементов презираемой и обожаемой массовой культуры). Это позволяет сочетать симпатии любителей гротескного театра и мистериального, но иконоборческие тенденции первого вынуждены все больше уступать задачам утверждения нового статус-кво [152]. Чтобы «снова проиграть эту ситуацию» (как принято выражаться на театроведческих конференциях), революции приходилось сочетать два взаимоисключающих жанра – акт иконоборчества и миф об основании. К тому же трансгрессия импровизации никогда не обходилась без репетиции и иерархии. Массовый театр совпадает с годами Гражданской войны не из-за напора энтузиазма, а из-за технического обстоятельства: только в военных условиях можно мобилизовать необходимые человеческие и технические ресурсы [153].
К 1921 начинается демобилизация больших военизированных коллективов, которые были условием возможности и причиной существования «театра массового поражения». Это заставляет уйти от гигантомании и соборности военного коммунизма, вернуться с улиц и площадей (которые еще недавно мыслились авангардистами как «наши кисти и палитры») – в аудитории и лаборатории, словом, специализироваться (а литературности – специфицироваться, как это назовут формалисты). Театр должен был теперь разворачиваться на заводских площадках (как в одном из анализируемых ниже случаев) и по возможности в закрытых помещениях, а театральные кружки – прикрепляться к месту работы или жительства.
Словом, с началом НЭПа культурная жизнь переживает нормализацию, многим начинает напоминать нормальную европейскую и даже приобретает деловые черты. Именно в этот момент на сцене и появляется Третьяков. В 1922 году он приезжает в Москву и начинает работать в Театре им. Мейерхольда, на сцене которого Всеволод Мейерхольд ставит его адаптации и пьесы собственного сочинения, а в Первом рабочем театре Пролеткульта его пьесы ставит С. М. Эйзенштейн.
Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре
В год своего последнего оригинального поэтического сборника [154] и год спустя после подписания художниками ИНХУКа манифеста «производственного искусства» [155], Третьяков оказывается в Москве и вскоре активно вовлекается в работу начавшего выходить ЛЕФа.
В его первом выпуске только что вернувшийся с Дальнего Востока поэт публикует наряду с финалом поэмы «17–19–21» статью «Откуда и куда? (перспективы футуризма)», в которой отмечает, что «в словесном искусстве производственная теория только намечена» [156]. Если свойства иконической изобразительности в искусстве были настолько потревожены резонансом политической и технической революций, что художники отказываются не только от репрезентации (через абстракцию), но и – что намного радикальнее – от холста (начиная с контррельефов) и идут к производству реальных вещей, то, вероятно, аналогичным образом должен быть снят и характер символического знака в литературе.
До сего же времени искусство, в частности словесное, развивалось в направлении показывания… Даже революцию художники ухитрились сделать только сюжетом для рассказывания, не задумываясь над тем, что должна революция реорганизовать в самом построении речи, в человеческих чувствованиях (197; курсив мой – П. А.).
Подразумеваемая Третьяковым трансформация литературного ремесла сдвигает внимание с «показывания» и