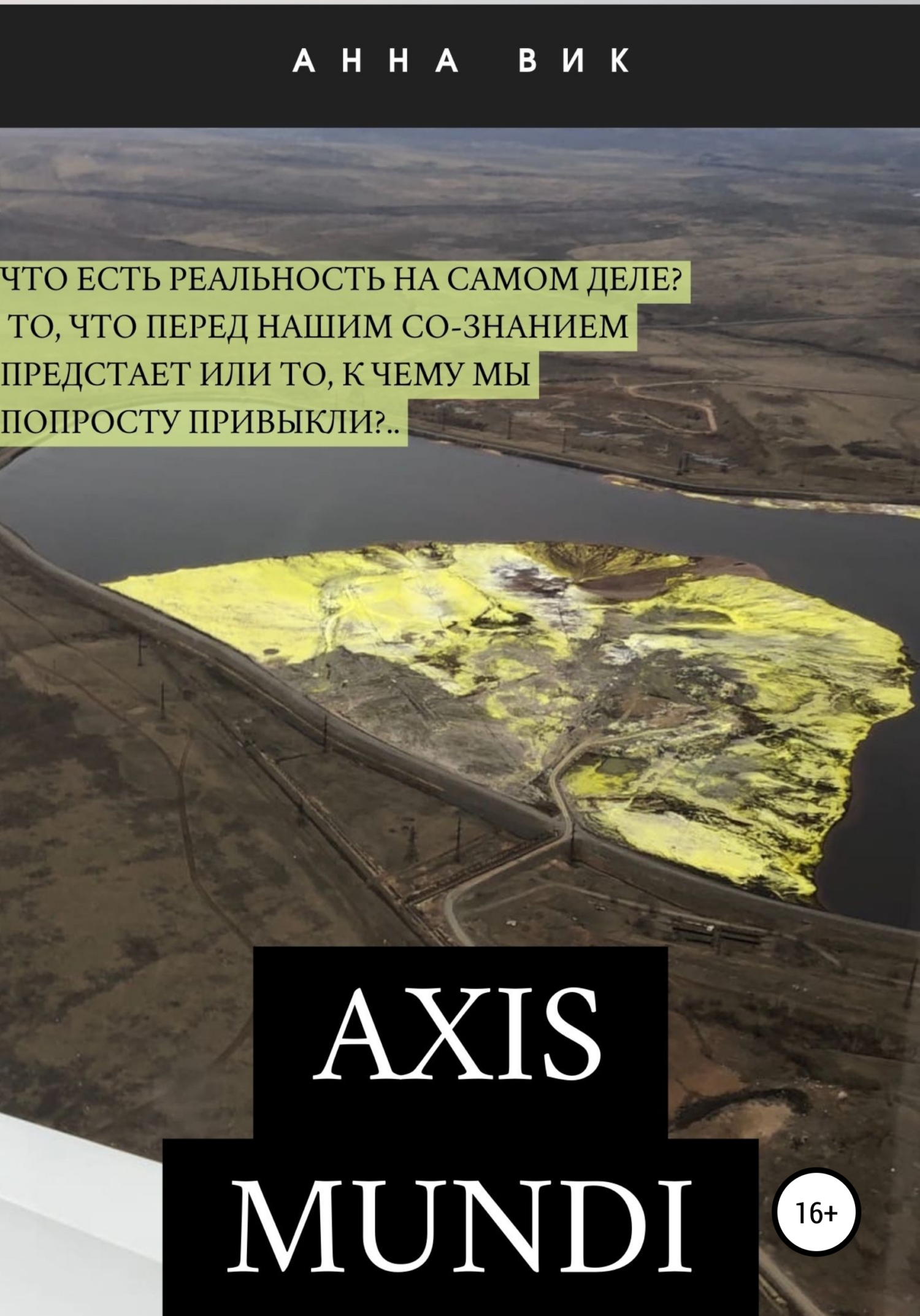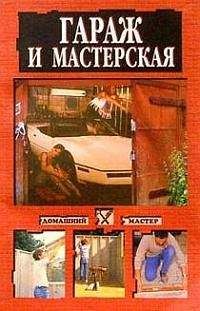или чисто фонетической выразительности формы, но на энергичных звуковых жестах, «речевой сигнализации» и «семафорической речи»:
4. В основу ритмической обработки фразы положены наиболее действенно-выразительные ритмические фигуры, кристаллизуемые из примеров обычного фразоупотребления.
5. В основу подачи текста положено не переживание, а учет изобразительно-агитационного эффекта.
6. Проработка артикуляционного эффекта выразительных по своему звукосоставу слов в качестве слов-жестов.
7. Подход к принципу «речевой маски», то есть нахождения для каждой речи некоторых устойчивых положений речеаппарата, дающих устойчивую тембральную и артикуляционную окраску речи [175] (курсив мой – П. А.).
Это все еще слово как таковое, но уже на театральной сцене и на службе у революционной агитации. Поэтому и приемы непосредственного воздействия по-прежнему подразумевают психофизиологическую основу, но к ним начинает примешиваться кое-что новое.
Несомненно тезис о «трудоустройстве» «безработной негативности» зауми в агит-театре вызовет негодование поклонника дистиллированного авангарда, однако неизвестно, что в этом словосочетании – агит или театр – оказывалось более сильным преобразователем слова как такового в его прагматике и материальности. Как уже было сказано выше, Третьяков добивается психо-технических эффектов исключительно средствами «текстового и вербального монтажа». Однако некий добавочный эффект вероятно могли производить и сами тексты, будучи непосредственно заимствованы с агитационных плакатов и политических речей. Речь, впрочем, не об их «идейном содержании» (ко всякой идейности содержания [176] и внутренним переживаниям психо-инженеры относятся снисходительно [177]), а о более косвенном эффекте институциональной рамки. Наряду с психофизиологией восприятия и биомеханикой движения, заимствование слоганов, приводившее к совмещению рамок театра и реальной политической жизни, тоже немало способствовало «реальной ощутимости». «Психику будоражило» не только точно рассчитанное экспрессивно-агитационное воздействие, но и прямое заимствование материала из повседневности [178].
Мейерхольд призывает к тому, чтобы искусство больше брало от реальности без художественных искажений, и это можно счесть за абстрактный призыв к некому реализму, но в ответ на это Любовь Попова заполняет сцену объектами, взятыми из реальной повседневности – мотоциклами, машинами и даже краном. Другими словами, такой же, как и в случае документального текстового материала, характер получают целые фрагменты реальности, имплантируемые из жизни на сцену. Они не избавлены от семиотической рамки театра как такового, но при этом не нуждаются в дескрипции и избегают литературной идиоматизации, то есть являются чем-то вроде индексальных знаков реальности [179]. Опять же по аналогии с заумью, которая схватывала сонорную реальность в обход понятийных автоматизмов, агитационный театр монтирует сцену из реальных повседневных объектов, «сбрасывающих с себя старые имена» (Шкловский), то есть подрывающих монополию литературного описания и символического типа знака. Для одной и той же задачи слову приходится стать как таковым, а предметам оставаться самими собой. Это восстание вещей, возглавленное футуристом, который рассчитывает, что индексальный материал сломит инерцию литературного жанра драмы.
Элементы «игры» в остром запахе газа
На инкрустации отдельных вещей дело не останавливается, и уже следующая пьеса Третьякова «Противогазы» [180] не только основана на документальном материале, но и сама ставится Эйзенштейном на реальной газовой фабрике в Москве в феврале 1924 [181]. Вместо вкрапления объектов на сцену здесь уже скорее сама сцена интегрируется в реальные производственные условия: их конечно можно все еще рассматривать как декорации, но только в случае, если считать, что диспозитив театра сильнее такого производственного сдвига. Впрочем, восприимчивость к рамке театра – субъективная переменная, поэтому мнения публики расходятся: по мнению искушенных театралов, «материальность обстановки завода особенно наглядно подчеркнула трудносовместимую с нею театральную природу пьесы» [182], тогда как пролетарская аудитория высказывала неудовольствие не избыточной театральностью, но, напротив, тем, что спектакль приходится смотреть в окружении, болезненно напоминающем знакомую им рабочую обстановку. Тогда как рабочие хотели «волшебного фонаря для отдыха», поскольку им хватало индустриальной реальности в жизни, творческие специалисты даже в реальной среде промышленного предприятия подозревали слишком много «театральщины» [183].
Однако в ситуации конкуренции фреймов театрального и индустриального производства [184], – всегда в конечном счете субъективно-семиотической переменной, – на подмогу «реальной ощутимости» приходила материальность воздействия по ту сторону «свободы интерпретаций». Саунд-дизайном служили реальные шумы и сигналы фабрики [185], а окончание постановки совпадало с началом следующей заводской смены, что и на уровне восприятия времени, а не только конвенции пространства, смещало ожидания зрителя: театр заканчивался не вешалкой, а гудком ночной смены. Как отмечает Эйзенштейн, соотношение между фикцией и фактом было не в пользу первой:
…Материальный факт заводского интерьера ни на какие соглашения с театральной фикцией не шел. <…> линия фактического материала реальности внутри театральной фикции возгорается новым увлечением. Забирает все целиком в свои руки <…> Нелепыми казались элементы «игры» среди реальности окружения и в остром запахе газа [186].
Если чужеродные объекты материальной культуры театр еще может рассчитывать кооптировать, включить их в свою семиотическую рамку, то при столкновении элементов вымысла («игры») с материальностью запаха (газа), последняя явно оказывалась сильнее и выходила за пределы «художественного воздействия», а психо-инженерия уточняла свое значение как техника воздействия не столько на «эстетическое чувство», но и на чувства как таковые – в том числе и чувство самосохранения [187]. В общем, зрителям спектакля тоже не помешали бы противогазы [188].
При желании можно условно разделить методы Мейерхольда и Эйзенштейна как основанные на эффекте включения индексального материала и скорее на (психо) физическом воздействии аттракционов соответственно, но в действительности оба эти способа «производства реальности» в драматургии Третьякова переплетались и взаимодействовали. Присутствие реальных материальных объектов зачастую и приводило к реальному (психо) физическому риску. Несмотря на то, что в этой пьесе Третьякова, поставленной Эйзенштейном, – в то время режиссером Рабочего театра Пролеткульта, – принято видеть отход от формальных экспериментов над психофизиологией восприятия в пользу «активации аудитории посредством манипуляции классовым сознанием» [189], в действительности несложно заметить, что для манипуляции сознанием приходится прибегать к ольфакторной физиологии.
Этот «драматургический эксперимент» сдвигал театр к его пределам и заставил Эйзенштейна вскоре перейти к медиуму кино [190]. Поворотным он оказывается и для Третьякова, который, критически оценивая опыт своей работы над постановкой, называет «Противогазы» «опорным пунктом» в переходе от представления человеческих типов к «построению стандартов» [191]. Стандарты создаются не столько для театральной сцены, сколько для научно-технических предприятий и индустриальной культуры в целом. По мнению медиолога Р. Дебре, в этом даже состоит главное отличие технических объектов от культурных: первые стремятся к унификации и конвергенции стандартов, вторые – к уникализации и дивергенции кодов [192]. Однако в среде ЛЕФа именно понятие производственных стандартов оказывается одним из ключевых в переходе от фактуры к фактографии