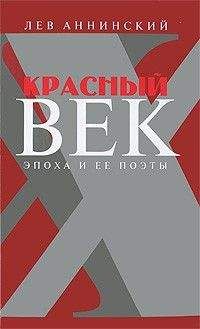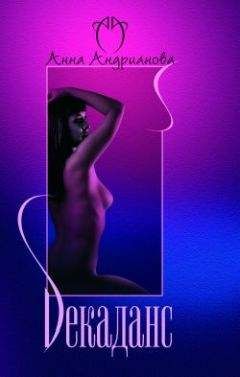Это-то Булат и чувствует абсолютным своим поэтическим слухом, и уж тут ни одна строчка не фальшивит. Молоденький стрелок, пустивший в расход врага народа, искренне не ведает, в чем его вина, — он выполнил приказ и сейчас, на почетном отдыхе, с полным правом нянчит внуков. За что его судить? За то, что у него в бумажнике пригрелся убийца и шевелит усами? Но тот же (все тот же!) убийца шевелит усами в бумажнике отца, когда тот кричит с трибуны, что пора покончить с врагами народа.
С отцом упирается душа в тупик неразрешимости.
Но есть мама…
Как-то Булат обронил, что после возвращения матери из ссылки у него не нашлось с ней общего языка. Может, в «эмпирической» реальности все и так, мать ведь была убежденная коммунистка… Но в реальности поэтической мать— абсолютный полюс невиновности. Образ кристальной чистоты. Через все десятилетия — мамины слезы, мамины молитвы (мама — атеистка — просит за сына). Мама — с фанерным чемоданчиком по дороге в ссылку, мама — с розой в руке посреди метели, мама — стройная, гордая и молодая — оберегом на границе памяти. Если есть, с чем сравнить любовь к бедной отчизне, — так только с любовью к бедной маме. Если есть, чем искупить пустыню на месте рассыпавшейся державы, этот упраздненный театр уравновесить, — то так: «На Россию — одна мая мама…»
Очная ставка с Историей, сгубившей лучшее из советских поколений, — письмо к маме: «Ты сидишь на нарах посреди Москвы…» Проследим, как испаряется из этой ситуации категория чьей-либо вины. За железной дверью топчется солдат — но он невинен: «он не за себя ведь — он за весь народ». Ступень вверх: «следователь юный машет кулаком»… Но и его не притянешь: он тоже не за себя — за народ. Ступень на самый верх: «вождь укрылся в башне у Москвы-реки». Вердикт предзадан: все растворяется в «народе».
Это и есть трагедия: подо всем, что казалось незыблемым, разверзается пустота: под «народом», под «державой», под Россией:
На Россию одна моя мама,
только что она может одна?
Поколение меченых — всё — испытало драму опустошения. Не в окопах, так после, когда выяснилось, что воевали не так и не за то. Вот уж точно: потерянное поколение. Вопрос (геополитический) не в том, потерянное или нет — потеря, кажется, запрограммирована историей; вопрос (поэтический) в другом: как личность справится с потерянностью? Тут у хороших и разных поэтов пути разные. Хотя «хороших» путей нет — все горькие.
Спасительный для многих путь врачевания души — национальная почва, обретаемая на месте провальной советской беспочвенности, — для Булата закрыт: сын грузина и армянки не может так вот запросто присвоить себе русскую национальную атрибутику: щепетильность не позволяет. Когда он нащупывает национальную опору, то — грузинскую. Дорога — к Тинатин. В Тбилиси детства. Туда, куда уносит песню Куры февральская вода. Можно было бы и завершить поиск корней под чинарой голубою, если бы к грузинской версии не добавилась армянская, — поэт, чаявший сокровенные свои слова прокричать по-грузински, кричит по-армянски: инч пити анем? — что мне делать?! Грузинская страсть сплетается с армянской скорбью… И опять-таки: можно было бы увенчать этим венком этнический поиск Булата, если бы в самый патетический момент («над Босфором») он не воззвал бы к судьбе по-турецки: тешекюр эдерим! — что в устах сына армянки прозвучало бы немыслимым по дерзости вызовом, если бы и впрямь несло в себе чисто национальную приверженность. Но в сознании интернационалиста, каким воспитан в семье партийцев «красный мальчик», такое совершенно невозможно. А главное, это противоречило бы музыке стиха — сокровенной сути поэзии и судьбы.
Музыка стиха говорит свое:
Не клонись-ка ты, головушка,
отневзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.
Это — самое сильное (во всяком случае, самое близкое мне) стихотворение Булата. Утро, встающее над ночью, спасает от того ощущения, о котором почти нигде не говорится прямо… а если говорится, то только матери:
Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь…
Отступает одиночество,
возвращается любовь.
Вслушались в музыку? Грузинский сын матери-армянки окрашивает свою любовь к ней — в русские тона! Можно на все лады поворачивать слово «Русь»… впрочем, у Булата «Русь» и «Россия» — довольно редки. И всегда подсвечены (подсечены) извне и как бы исчужа: то из заграницы, то глазами покидающего страну еврея. А то и глазами Блока: «куда ни посмотреть — все скифы, скифы, скифы… их тьмы и тьмы, тьмы». Поэт даже формулирует не без риска: русских вовсе нету, а вместо них — толпа. Вслед за Ходасевичем он ставит поэтический памятник своей няне Акулине Ивановне, озарив ее тамбовское надгробие «утренним дымом» и затеплив «российский костер» над дорогим прахом. Однако сквозь любой траур все-таки пробивается русская музыка:
И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.
Поэт, назвавший своим отечеством русскую речь, в ней находит спасение…
Тут знатоки поэзии Булата мне возразят, что столь отчетливая акцентировка для него не характерна, что он не грешит такой стилизацией, и что разгадка его поэтической неотразимости не в национальной окраске (грузинской ли, армянской или русской), а как раз в отсутствии столь сильных средств — в неуловимо «нейтральной», отрешенно-возвышенной фактуре стиха, чуждого малейшему напору и нажиму.
Да, так. И это главная загадка. Лучшие критические умы бьются над неслыханной простотой булатова слова, которой «невозможно подражать», замирают перед моцартианской естественностью, когда выразительность стиха трудно сопрячь с «простеньким набором технических средств», и даже (как довел эту парадигму до формулы Станислав Лесневский) пробуют истолковать «три бедности, составляющие богатство Булата: бедность голоса, бедность текста, бедность мелодии».
Все-таки я уточню кое-что насчет бедности. Время от времени Окуджава позволяет себе что-нибудь вроде «бравой брани брандмейстеров». Или пишет: «Петухи проголосили, песни позднике погасли…» — и дальше 43 слова в стихотворении — все на «п». Или — перечисляя «Дезику» «наши традиции» — дает такой перечень: верность, виктория, вобла, война, воля, восторг, вероятность везения…
Спрашивается: зачем эти экзерсисы в духе Ломоносова и прочих докторов элоквенции восемнадцатого века нужны поэту века двадцатого, принципиально поющему простые песенки?
Я думаю, затем, чтобы читатель помнил: не проста эта его простота, и не от бедности эта бедность.
«Бесхитростная» обнаженность простого стиха и полное нежелание прикрыться какими бы то ни было «доспехами» формы находятся в связи (в глубинной, загадочной внутренней связи) с той драмой, что все твердыни, на которых был выстроен мир поэта (мир его поколения), потерялись в небытии.
О том, что ему осталось (досталось), он, как мы расслышали, шепнул маме: одиночество.
Время от времени он об этом «говорит», но дело не в этом, вернее, не только в этом. Поэт может сказать: «Нева Петровна, я просто одинокий человек». Или: «Остаюсь я один. Вот так. Остаюсь». Или: «Одинок, как ветка в поле». Или даже так (шутливо, сыну): «Папочка твой не случайно сработал надежный свой кокон». В стихе срабатывает не только сообщение, но и его тон. Его цвет.
Цвет того мира, в котором обретает себя красный мальчик, ставший маленьким солдатом, отнюдь не красный, хотя и крови там много, и знамя — цвета крови.
Цвет булатова мира — синий. Смежный с голубым, отливающим в сумеречность. Смежный с лиловым, отливающим в ночь. Синий — цвет обречения. Синие шторы над умирающим. Синий иней на остывающей подушке. Синяя зола в потухшей печи. Синька, несбыточная довоенная синька на рынке прифронтового города — в руках зазывающей цыганки.
Любой грамотный филолог немедленно продемонстрирует мне в ответ и в опровержение: «два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят, над ними синие туманы во все стороны летят. Над ними красные цветочки и золотые лопухи… Два кузнечика зеленых пишут белые стихи». Я подхвачу: «синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых…»
Куда девается синий в этом разлетающемся «во все стороны» многоцветье?
А вы не чувствуете, что это многоцветье, эта праздничная радуга — в чем-то сродни «картонным» трубам? Что живописцы и маляры раскрашивают этот мир так, что он превращается в декоративный, ярмарочный, наведенный? И что у красной реки, у синей горы разворачивается действие разом ритуальное и потустороннее — сон, греза?
Добавим сюда голубую кровь поэтов и то, что ангел белый, а ворон черный (варианты: белые стихи, черный кот). Определенность черного — белого вообще пароль воевавшего поколения, но поверх этого графичного грунта выстраивается у Булата мир откровенно, демонстративно, соблазнительно сказочный, радужно многоцветный. «Желтую краску возьми… серую краску… черную… синюю… красную… зеленую…», — Лиля! Лиля! — поет цыганка, и первоначальная синева тонет в петушьем крике цветописи, похожей на детский рисунок, на рекламу цветных карандашей, на площадной рай…