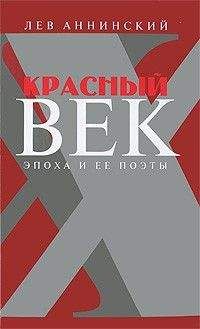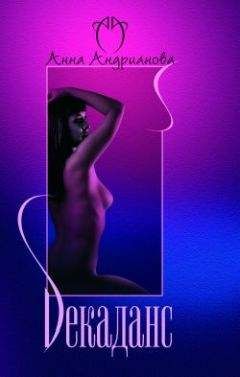Добавим сюда голубую кровь поэтов и то, что ангел белый, а ворон черный (варианты: белые стихи, черный кот). Определенность черного — белого вообще пароль воевавшего поколения, но поверх этого графичного грунта выстраивается у Булата мир откровенно, демонстративно, соблазнительно сказочный, радужно многоцветный. «Желтую краску возьми… серую краску… черную… синюю… красную… зеленую…», — Лиля! Лиля! — поет цыганка, и первоначальная синева тонет в петушьем крике цветописи, похожей на детский рисунок, на рекламу цветных карандашей, на площадной рай…
В сочетании с простой музыкой этот балаганчик производит загадочное действие, которое знающие люди называют соблазном.
— Ваш Окуджава — прелестник, соблазнитель! — догадываются молодые «семидесятники», ставшие «почвенниками», и атакуют Михаила Поздняева.
Не спорьте, Михаил Константинович! Правы «почвенники»! Булат обольщает нас мнимым выходом из трагедии, а когда мы ему не верим и все- таки отчаиваемся, он утешает нас с интонациями кроткого авгура: зачем отчаиваться, мои дорогие, все просто, зло вечно. Возьмемся за руки, друзья!
А лихое «мы», с которым он так весело ворвался когда-то в чопорную позднесоветскую официальщину:
— А мы швейцару: «Отворите двери!»
Внимание, друзья, взявшиеся за руки! Происходит одно из самых соблазнительных братаний в истории новейшей советской поэзии: вместе с Булатом вкатываются в нее молодые невоевавшие «шестидесятники», и Окуджава делается непременным соучастником этого «мы», чуть не эмблематической фигурой в эстрадном созвездии, прилепляясь в своей телогреечке к тройке изысканно одетых властителей дум 1961 года: к Евтушенко, Рождественскому и Вознесенскому, — что и увековечивает на своей незабываемой обложке журнал «Огонек» в начале Перестройки.
Попробуйте теперь расклеить это «мы». Профессор Георгий Кнабе на Научной Конференции посвящает глубоко научный доклад тому парадоксу, что поэт, воспитанный в 30-е годы и вставший на ноги в 40-е, оказывается знаменосцем 60-х. Парадокс настолько впечатляющ, что литературовед Лазарь Лазарев полагает нужным напомнить коллегам, что Окуджава принадлежит все-таки к фронтовому поколению (а не к либералам послевоенной волны, добавлю для ясности).
Но почему же так легко переходит он из строя «мальчиков державы» в хоровод «шестидесятников»? И почему так же весело потом отбивается от этого хоровода: «взяться за руки не я ли призывал вас, господа?» Господа его подвели? А может, это он сам ошибся: «думал, что слился с народом, а вышло: смешался с толпой»?
Так что же такое это его «мы», оказавшееся столь притягательным для младших братьев? «Окопная семья»? «Наш отряд»? «Наш союз»?
А вас ничто не смущает в этом «союзе» чисто стилистически? Ну, хотя бы то, что поднявший против него патетический «меч» получает в качестве высшей кары удар таким непатетическим предметом, как ломаная гитара (естественно, вызывающая в сознании ломаный грош, если уж слушать в стихе обертона). И в роли романтического братства выступает здесь, как правило, откровенно разгульная компания, сбившиеся в живописную кучу бродяги-пропойцы, которым только б ленточки носить и для которых брошка — чуть не талисман, а пальба — вариант гульбы. В дурном настроении они орут встречному: «Паскудина!», в хорошем настроении говорят друг другу комплименты и так изящно держат бокалы «в изогнутой руке». Иногда Булат вскользь роняет относительно них частицу «не»: «не бродяги, не пропойцы», иногда задумчиво добавляет, что только дураки обожают собираться в стаи, но увековечивает он эту веселую компанию с загадочным удовольствием.
И вы в самом деле верите, что они ему «свои»?
В самом начале 60-х Булата согнали со сцены в Доме кино; формулировку невольно подсказал замечательный режиссер Элем Климов: «Осторожно, пошлость!» — Свои, с горечью комментирует эту сцену сегодня Станислав Рассадин.
Так ты не дели людей на «своих» и не «своих», может, легче будет.
Да не будет легче. Если эту маскарадную фантасмагорию воспринимать всерьез. Галина Белая (на той же Конференции) демонстрирует куда большую проницательность, она говорит: Окуджава — великий мистификатор. Прикидывается простаком.
Точная характеристика. Нет у него своих. Одинок.
Остается разгадать причины маскарада, карнавала и разгула.
Давление на личность всегда вызывает ответное сопротивление; до какого-то индивидуального предела это сопротивление возрастает пропорционально напору: «Я» звучит все громче и яростнее.
За неким «пределом» это «Я» иронически тушуется: не выставлять же, в самом деле, как последнюю истину то, из-под чего уведена опора.
«Чем ближе мы к истине, тем все дальше она» — вот краешек той бездны, дыхание которой чувствует человек, у которого из-под ног уведено все: система убеждений, страна, народ, правда. Апокалипсис!
И опять-таки: до какой-то грани Апокалипсис рисуется в катастрофически-оглушительных формах, каковых много в арсенале мирового авангарда.
За пределом этого ужаса, то есть за определенным болевым порогом человек пожимает плечами и говорит, улыбаясь: «Все просто».
Для непонятливых расшифровывает: «Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют». И еще: «Я буду улыбаться, черт меня возьми, в самом пекле рукопашной возни». И даже так — для самых непонятливых: «Все улыбки наши пряничные не стоят ни черта». Трагедия как бы ускользает, она сведена к нулю обольстительной, соблазнительной, обезоруживающей покорностью.
Через ад потерянности проходит вырвавшееся из ада войны поколение меченых. Мальчики державы чувствуют, что обречены вместе с державой, и сопротивляются року. И тот, кто измерил эту беду до самого дна, — взят в шеренгу идущих следом — он такой легкий, такой простой, такой свой…
А он идет с ними и думает: «Через два поколения выйдут на свет люди, которых сегодня нет».
Думает: ведь их в сущности и тогда не будет: «зависть, ненависть и вражда взойдут над просторами их полей».
Думает: «да ведь и все от нуля».
От нуля… Что же в остатке?
«Матушка, поплачь по сыну: у тебя счастливый сын».
НАУМ КОРЖАВИН:
«МИР, НЕ ПОХОЖИЙ НА ОВАЛ»
Среди великих поэтов, родившихся между Великим Октябрем и Великим Переломом, Коржавин — единственный, кто отрицает «поколение». Вернее, он дробит это поколение на малые возрастные группы (три года, максимум пять), которые реагируют, каждая по-своему, на малейшие перемены политического климата. Поскольку история души Коржавина — последовательное и скрупулёзное выдавливание из себя «по капле» — сначала сталиниста, потом коммуниста, такое микроскопирование объяснимо. Но, проследив траектории этих «капель», Коржавин всё-таки возвращается к образу «волны» и признает, что «потом» капли «сливаются в одно», и поколение осознается как нечто целое.
Что и позволяет мне отнести Коржавина к той общности — от Когана до Межирова — которое числило себя изначально «поколением большевиков». Сквозь пелену позднейшей ярости просачиваются в мемуарах Коржавина честные свидетельства о его первоначальной вере.
В детском садике он узнаёт, что бога нет, и — мгновенно! — становится таким железным атеистом, что атакует ехидными вопросами своих родственников, у которых длинные бороды неотделимы от верности Всевышнему.
В начальных классах школы он проникается верой в романтику Мировой Революции и героику Гражданской войны — причём до такой степени, что именно эти переживания пробуждают в нем поэта.
К моменту юношеского самоопределения он ясно видит своего врага. Это — низменный быт, косное мещанство, обывательская тупость, включая сюда и идиотство так называемого светского поведения.
В пределах поколения «мальчиков Державы» он безошибочно чувствует самого близкого себе, самого ясного, чистого, бескомпромиссного, кристально-прозрачного (кристаллически последовательного) собрата.
«Я был моложе Павла Когана (на семь лет. — Л.А.), позже начал мыслить и многое оценивал более трезво (эта трезвость пришла много позже — когда Коган уже пятнадцать лет, как гнил в солдатской могиле. — Л.А.). А вот «дамочек» мы с ним оценивали одинаково ригористично. Это был вопль оскорблённого аскетизма (хоть мы оба не были аскетами), уходящего из жизни вместе с революционной эпохой. А на «дамочках» это просто срывалось…»
На «дамочках», на «домашней контре», на «чёртовой породе» мещан, из среды коих сами же и вышли, а лучше сказать, выломились.
Так что прежде, чем сориентироваться по Маяковскому, Коржавин самоопределяется по Когану. Вплоть до интуитивно принятой, непоколебимой русскости, что для выходца из местечковой среды означает не просто констатацию, но жесткий и принципиальный выбор.