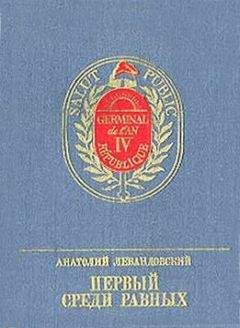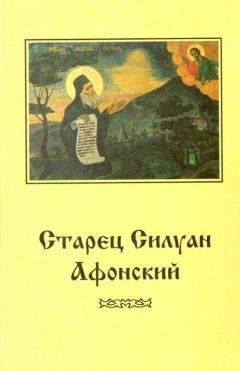Господин Прево… О, Франсуа Ноэль хорошо знал его. Это был двоюродный брат одного из Билькоков, королевский адвокат… С начала заседаний Генеральных штатов он оказался в числе самых правых депутатов. И вот теперь это предательство…
Негодование Бабёфа было беспредельно. Впрочем, не он один — все демократически настроенные граждане города возмущались поведением Прево. На общем собрании Бабёф выступил с пламенной речью, требуя отзыва опозорившегося депутата.
— Отречёмся от него, — призывал Бабёф, — покажем, что мы ошиблись в выборе, отзовём предателя и заменим его достойным защищать общественные интересы; оставить гадюку, отравляющую всё своим зловонным дыханием, не есть ли это преступление против нации?
Оратору аплодировали. Он тут же составил проект петиции к Собранию, но…
Но подписей под этой петицией было маловато…
Билькоки были настороже. Они использовали весь свой престиж, чтобы убить движение в зародыше. Одних предостерегая, других запугивая, третьих подкупая, они свели на нет действия защитника свободы и демократии.
И тогда, расположив цепочкой факты и проанализировав их все, он пришёл к новым выводам, по-иному представив себе казавшееся давно понятым и вполне ясным.
Третье сословие… Когда-то думалось, что оно едино, что оно целиком противостоит абсолютной монархии и привилегированным.
Но это глубокое заблуждение.
Едва народное движение стало угрожать богатым, как третье сословие показало свою непрочность, многослойность. Богатые буржуа, ещё вчера кричавшие о «свободе» и «равенстве», сегодня примкнули к ненавистной знати и вместе с ней противостоят народу.
Сейчас они удовлетворены. Они считают, что революция близка к завершению. Но так ли это? А может быть, до завершения ещё очень далеко? Может быть, революция ещё и не начиналась? Может, всё происшедшее лишь прелюдия к ней, всего лишь её канун?…
Так или иначе, но Бабёф осознал главное: ведь основная, подавляющая часть третьего сословия, иначе говоря весь французский народ-страстотерпец, ещё не проявила себя как должно, ещё не сказала своего решающего слова!..
24
Народ сказал свое слово 14 июля 1789 года, ответив на провокационную игру двора и козни старых и новых господ взятием Бастилии.
И хотя ни Лоран, ни его герой во взятии Бастилии не участвовали и даже не были в то время в Париже, на них обоих событие это произвело одинаковое впечатление: и тот и другой поняли — революция началась, и на этот раз — началась всерьёз…
…Лоран невольно погрузился в воспоминания о далёком и всегда близком, жившем постоянно, пока был жив он.
Он вспоминал о том, где был сам, что делал, о чём думал в годы, месяцы и дни — вплоть до 14 июля, — когда Бабёф, отказавшись от своих февдистских иллюзий, быстрым шагом шёл к революции.
Он, Лоран, двигался в том же направлении, но как различались исходные точки их пути, да и сам путь!
Потомок знатного рода, изнеженный юный щёголь с блестящими перспективами, как отличался он от бедняка, плебея, «рождённого в грязи», своими руками добывавшего себе хлеб насущный!..
К тому времени, когда Франсуа Ноэль с небольшим саквояжем разъезжал по Пикардии, стремясь получить очередной заказ, он, Лоран, мог упиваться жизнью.
Позади был дом — роскошный дворец, в котором прошло его детство, в неге и в холе, среди материнских забот и отцовских упований, под присмотром целого сонма гувернеров, гувернанток и вышколенных лакеев — ведь он был старшим из сыновей и должен был унаследовать титул и земли отца!
Позади был университет, любимые профессора, познакомившие его с Локком и Кондильяком. Были сочинения Гельвеция, Юма, Мабли и Руссо, с которыми он знакомился самостоятельно и которые впервые пробудили его душу и ум.
Позади была придворная должность, орден Святого Этьена, женитьба на знатной и богатой наследнице, прелюдия блестящей великосветской карьеры…
Как это всё было не похоже на детство и юность тяжко и упорно «выбивавшегося в люди» чернорабочего с Пикардийского канала!
Но имелось и нечто сближавшее обоих сверстников: оба мечтали о лучшем будущем, и конечно же не для себя, а для всех, для всего человечества в целом.
Именно поэтому богом и одного и другого стал Руссо.
Именно поэтому у молодого Лорана возникли свои счёты с другим богом, богом официальным. И вскоре все надежды отца, блестящая карьера и обеспеченная жизнь оказались мифом.
Он давно уже увлекался нелегальной литературой. Он получал и заботливо хранил запрещённые книги, издаваемые в Париже. На него донесли. В 1786 году у него был сделан обыск и конфисковано несколько антирелигиозных произведений, в том числе «Система природы» Гольбаха.
На первый раз отцу удалось замять неприятное дело.
Но юный вольнодумец не унялся. Он начал сочинять «подрывные» произведения и тайно распространять их, а в 1789 году, узнав о взятии Бастилии, умудрился опубликовать «Элогу[10] революции»…
Подобного абсолютистский режим его родины простить не мог, и новые хлопоты отца оказались бесполезными; юный «смутьян» был обречён на изгнание.
Именно тогда он и уехал на Корсику.
Что же касается Франсуа Ноэля Бабёфа, то при вести о взятии Бастилии он немедленно помчался в Париж.
25
Лоран сделал новую остановку не только потому, что вдруг погрузился в личные воспоминания.
Было здесь и другое.
От времени первого года революции дошло лишь несколько писем Бабёфа и кое-какие его литературные наброски.
Всего этого было слишком мало, чтобы составить ясное представление о делах и мыслях будущего трибуна вэтот необыкновенно важный период времени.
Но потом, вспомнив свои прежние сомнения, Лоран взял себя в руки. Оставлять начатое нельзя. Он не простил бы себе подобного. Тем более он знал, что по более поздним и самым ярким годам жизни Бабёфа материалов окажется столько, что придётся делать даже весьма тщательный отбор!
И Лоран снова обмакнул перо в чернила…
26
…Строго говоря, Франсуа Ноэль собирался в столицу по своим частным делам.
Но событие 14 июля, бесспорно, ускорило его приезд.
И вот он снова в Париже. Он носится по знакомым улицам и словно бы не узнаёт их. Везде огромные толпы людей. Создаётся впечатление, будто все они, эти ещё вчера угнетённые бедняки, стали подлинными хозяевами столицы. Они вершат грозный суд над своими недавними властителями, они диктуют свою волю ратуше, и даже Учредительное собрание вынуждено с ними считаться. Парк Пале-Рояль, многочисленные харчевни и кафе превратились в политические клубы. Гвардейцы братаются с народом. Новые ораторы и вожди — Марат, Дантон, Демулен, — разъясняя смысл происходящего, призывают к бдительности.
Вот и началось.
Вот она, долгожданная революция.
Словно поток, сорвавшийся с кручи, народное восстание сметает весь старый порядок с его установившимися понятиями, привилегиями, жандармерией и тюрьмами…
Бабёф настолько потрясён всем увиденным, что в письме к жене не может говорить о своем деле — а ведь бедная Виктория, оставшаяся с детьми без гроша, ждёт в первую очередь сообщения о деле…
«Не знаю, с чего начать это письмо, бедная моя жёнушка. Невозможно, находясь здесь, иметь о чём-либо ясное представление, до такой степени душа взволнована. Всё вокруг идёт вверх дном, всё в таком брожении, что, даже будучи свидетелем происходящего, не веришь глазам своим».
Он рассказывает о ярости народа, о разрушении Бастилии, о смерти её коменданта Делоне, о расправе с другими приспешниками старого порядка — с купеческим старшиной Флесселем, с интендантами Фулоном и Бертье де Совиньи…
Бабёфа печалит самосуд, ему больно видеть жестокую радость народа, но он не порицает парижан:
«Я понимаю, что народ мстит за себя, я оправдываю это народное правосудие, когда оно находит удовлетворение в уничтожении преступников, но может ли оно теперь не быть жестоким? Всякого рода казни, четвертование, пытки, колесование, костры, кнут, виселицы, палачи, которых развелось повсюду так много, — всё это развратило наши нравы! Наши правители, вместо того чтобы цивилизовать нас, превратили нас в варваров, потому что сами они таковы. Они пожинают и будут ещё пожинать то, что посеяли, ибо всё это, бедная моя жёнушка, будет иметь, по-видимому, страшное продолжение: мы ещё только в начале».
Франсуа Ноэль не собирается скрывать своих мыслей; напротив, он хочет, чтобы их узнали его земляки, жители Руа:
«Ты можешь дать это читать другим. Теперь нация свободна, и каждый пишет, что хочет».
Только после этого, высказав главное, он переходит к своим личным делам. Здесь он ничем не может утешить Викторию — денег у него нет и, что самое печальное, вероятно, не будет.