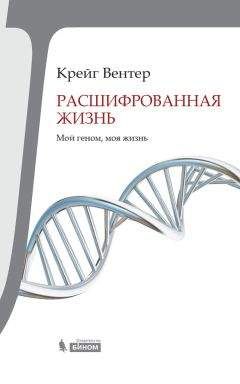Итак, русская революция 1917 года готовилась в условиях роста, а не в условиях упадка. Другое дело, что Первая мировая война и особенно ситуация, сложившаяся после 1915 года, спровоцировали резкий экономический спад, а зима 1917 года вообще поставила население крупных город в тяжелейшее положение. Но на той важнейшей стадии, когда «запускались» все политические механизмы, порождающие революцию, она была в гораздо большей степени идеологической, чем классовой. И это вторая ее существенная особенность.
Здесь не место и не время говорить о характере революционного процесса во второй половине XIX века, который начинался с герценовских социалистических утопий, но быстро переродился в романтический террор поздних народников. Но интеллигентский характер революционного протеста в начале XX века очевиден; борьба за идеи, формулы и принципы были важнее, чем достижение конкретных прагматических целей и отстаивания интересов тех или иных конкретных групп. Об этом пишут самые разные историки; особенно жестко Ричард Пайпс, который вообще считает, что у русской революции было только две причины – массовая бедность и активная интеллигенция. Выдавленная самодержавием в подполье, не включенная в процесс открытой и легальной политической борьбы, она заразилась сознанием касты, причем радикально настроенной8.
Как писал религиозный социалист Георгий Федотов, который прошел через членство в РСДРП, а потом отверг революционную философию, интеллигенция «целый век шла с царем против народа прежде чем пойти против царя и народа (1825—1881) и, наконец, с народом против царя (1905—1917)». А другой религиозный мыслитель, уже конца XX начала XXI века, Григорий Померанц утверждал: «В жизни русской интеллигенции постоянно нарастают две тенденции: одна к действию во что бы то ни стало („К топору зовите Русь!“), другая, напротив, окрашена непреодолимым отвращением к грязи и крови истории (Лев Толстой и толстовцы)».9
Но чтобы не впадать в модный антиинтеллигентский пафос, подчеркнем: у этого интеллигентского перекоса русской революции были очень серьезные причины. Основная заключалась в том, не институты и не процессы, а личности и кланы оказались движущей силой политической системы поздней Российской Империи. Партии призваны служить институциональной основой легальной борьбы за реальную власть, но у нас они не имели никаких шансов образовать ответственное правительство, им была оставлена в основном риторическая площадка, их участью были словесные баталии, битвы теоретиков. Даже прохождение партии в Думу не давало рычагов управления. Начали они зарождаться, в полном соответствии с триадой Вебера, как аристократические группировки, но даже до стадии политических клубов не дошли; разгром декабристского движения в 1825 году, именно разгром, до основания, остановил это естественное движение раз и навсегда. Масонские ложи, несмотря на причастность к ним значительной части лидеров февральской революции, не сыграли роль клубов, которые в триаде Вебера предшествуют массовым партиям; наоборот, они воспроизводили клановый характер русской политики.
В итоге на территории Великороссии10 не аристократия, а радикальные разночинные круги стали создателями первых протопартийных структур, от народовольцев до эсдеков и эсэров. А элиты, что сословные, что экономические озаботились партийным строительством только после 1905 года. И мало преуспели. Тем более, что власть не только не способствовала, но и запрещала участвовать губернскому начальству в политических организациях.
В результате грандиозная энергия интеллектуальных, религиозных, культурных поисков начала XX века сама себя перенаправила в словесную стихию, она могла расшатывать, но не имела шансов созидать. Неудивительно, что даже партии центра не понимали логику компромисса; это закон политики, вытесненной в область риторики. Правда, имелась маргинальная по своему весу в легальных институтах, но грандиозная по устремлениям партия РДСРП и ее ядро – большевики; но она-то как раз не ставила перед собой задачу институциональных реформ, ее целью было разрушение существующего строя и взятия власти, причем навсегда. Что до поры до времени казалось неосуществимой утопией. Точно так, как трудно было себе представить, что революционный террор из эксцесса на десятилетия превратится в метод государственной политики.
При этом столь же интеллигентским, столь же риторическим и столь же (с точки зрения институтов) беспомощным был крайне правый лагерь; черная сотня, вышедшая из кружка Мещерского, пользовалась сравнительно большой поддержкой – на пике численность черносотенных организаций была более 400 000 человек, но совершенно не случайно партийный кризис фактически разрушил русскую правую, из рядов националистов история вербовала главных врагов самодержавия и деятелей революции.
Что же до часто повторяемой мысли о большевизме как самом последовательном выражении духа русской интеллигенции, то приведем еще одну цитату из Георгия Федотова: «Нет ничего более ошибочного. …большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции. Большевики – профессионалы революции, которые всегда смотрели на нее как на „дело“, как смотрят на свое дело капиталистический купец и дипломат, вне всякого морального отношения к нему, все подчиняя успеху. Их почвой была созданная Лениным железная партия»11.
Третьей особенностью, которая непосредственно связана с антиинституциональным, идеологическим характером русской революции, было то, что на вызовы модерна и власть, и оппозиция отвечали глубоко архаическим образом. С одной стороны, Николай Второй решился на Манифест 17 октября, то есть на подобие основного закона, с другой, отвечая на вопрос Всероссийской переписи 1897 года (Род занятий? «Хозяин Земли Русской»), он очень точно выразил свое мировосприятие. Его картина мира, которой во многом подчинялись практические действия, была ретроспективной и реакционной; в этой картине мира находилось место всемирному еврейскому заговору, но не находилось места рациональному устройству политической системы, скучному балансу интересов. Он не случайно с таким сочувствием отреагировал на Протоколы сионских мудрецов и был потрясен докладом Столыпина, когда тот представил доказательства подделки; даже отдавая распоряжение изъять Протоколы, царь оговаривал: «Нельзя чистое дело делать грязными способами.» То есть, дело само по себе – чистое.
Распутин не случайно появился на его горизонте; причина, конечно, заключалась прежде всего в болезни сына и мистическом настрое жены, но не только. Эта готовность передоверить судьбу (свою, а отчасти и страны) некоему всезнающему старцу и нежелание полностью отвечать за свою судьбу (и судьбу государства) индивидуально, тоже были частью архаической картины мира высшего представителя правящей элиты.
Однако и противники царя отвечали на эпоху модерна, столь блистательно проявившую себя в русской культуре, науке, философии – глубоко архаически. Причем не только Черная Сотня и Союз Михаила Архангела, которые противопоставляли изменчивой современности – ретроспективную национальную утопию. Столь же архаичными были политические практики прогрессистов, которые воспроизводили модели русского сопротивления второй половины XIX века, с его уклоном в террор, идеологическую нетерпимость, ненависть к институтам и пародию на средневековую аскезу. Это был архаический прогресс, с человеческими жертвоприношениями и самым настоящим культом кровавых героев.
При этом, и тут заключается четвертая особенность русской революции, в стране давно уже вызрела альтернатива как неумеренной архаике, так и безответственному прогрессу. Это философия консервативной модернизации. Одним из ее адептов был Столыпин, который ясно сознавал необходимость разрушения общины, учитывал западный, в частности, датский фермерский опыт, и при этом столь же ясно понимал: на смену ценностных приоритетов нужно время, требуются не только административные решения, но и работа с человеческим сознанием. Другим мощным полюсом консервативной модернизации было русское старообрядчество, которое соединило крайний религиозный консерватизм с невероятной отзывчивостью на все новое и жизнеспособное в области промышленности, техники, науки и искусства. Рябушинские, Щукины, Морозовы закладывали основы русской протестантской этики, причем не теоретически, в отличие от интеллигенции, а практически. И осознанно – ссылки на хорошо прочитанного Вебера мы находим в статьях одного из Рябушкинских, Владимира, профессионального банкира12. Невозможность реализовать эти планы консервативной модернизации резко повышала шансы назревавшей русской революции.