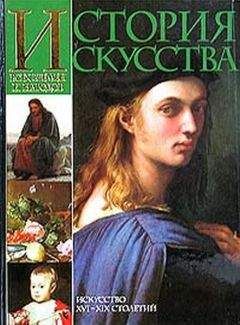Выходец из гущи народной, сын тамбовского прасола, Александр Михайлович был крут, резок, самолюбив, непримирим с оппонентами. Любил власть, которую благодаря дружбе с К.Е. Ворошиловым, имел в достатке и нередко злоупотреблял ею. Свято верил, что среди современных художников нет и не может быть равных ему, что он есть художник номер один. Был болезненно ревнив к художникам, которые по своим талантам не уступали ему, особенно если их живописный почерк, творческая манера отличались от его. Думаю, что поэтому он недолюбливал и Аркадия Пластова, и гениального Павла Корина, с которым я был также дружен. Страстный приверженец и страж реализма, он не терпел других направлений в искусстве.
Особую наприязнь он питал к своему однофамильцу Сергею Васильевичу Герасимову, который после Александра Михайловича возглавил Союз художников. И в самом деле, рядовой зритель часто пугал Герасимовых или считал, что есть один знаменитый, под первым номером Герасимов.
С К.Е. Ворошиловым его связывала давняя дружба. В сущности, его монументальные полотна «Первая Конная» и «На страже Родины» (Сталин и Ворошилов в Кремле) были выполнены по заказу Ворошилова, не говоря уже о портретах маршала и его близких. Покровительство Ворошилова давало ему почти неограниченную власть в изобразительном искусстве.
Сложные отношения были у него с представителями «богоизбранного» народа. Евреи считали его откровенным антисемитом, хотя на самом деле он таким не был. Среди его друзей были евреи, он писал их портреты, они охотно позировали ему (И. Грабарь, С. Маршак и др.). Он не терпел М.Шагала и Р.Фалька не потому, что они были евреями, а потому, что были воинствующими апологетами антиреализма в искусстве, да к тому же бездарными. Как каждый патриот, он не терпел сионистов, их засилия в русской культуре и высказывался па этому поводу довольно откровенно, что в то время считалось антисемитизмом, как, впрочем, и сейчас.
Как-то на одном правительственном приеме Герасимов стоял в зале и разговаривал с Ворошиловым. В это время к ним подошел Илья Эренбург и поздоровался сначала с маршалом, а затем протянул руку Герасимову. В ответ Александр Михайлович демонстративно повернулся к Эренбургу задом, и рука Эренбурга повисла в воздухе. Шокированный писатель покраснел и молча отошел в сторону, а Ворошилов закатил нотацию обидчику:
— Что за дурацкая демонстрация? Как ты мог?!
— Клемент Ефремович, да это ж неразоблаченный шипиен, — невозмутимо ответил Герасимов.
Тогда еще не было термина «агенты влияния», но Александр Михайлович обладал на них особым чутьем и совершенно справедливо считал их «шипиенами». Вообще в кругах патриотической интеллигенции идеологические диверсанты были известны поименно. Главным образом это были лица еврейской национальности — в первую очередь сионисты и связанные с ними семейными узами «аборигены». Хрущевская «оттепель» открыла для них все шлюзы, через которые в страну хлынул мутный, грязный поток западной псевдокультуры. Все это не могло не вызывать тревогу патриотов. И недоумение. Мы тогда часто по вечерам встречались в мастерской Евгения Вучетича, либо у Герасимова, либо в мастерской Павла Судакова. Спрашивали друг друга: неужели там, наверху, не понимают, что происходит на фронте культуры? Творятся откровенные идеологические диверсии, преднамеренное духовное растление народа, главным образом молодежи. Идет борьба за души людей. Эта проблема стала основной в вышедших тогда одновременно моих романах «Любовь и ненависть» и «Во имя отца и сына», вызвавших переполох в стане диверсантов или, по-герасимовски, — «шипиенов». Наиболее обнаженно эти диверсии проявились в изобразительном искусстве. С подачи тогдашнего президента Академии художеств Владимира Серова и секретаря ЦК Леонида Ильичева была организована в выставочном зале «Манеж» встреча художников с руководителями партии и правительства На ней с демагогической речью выступил Н.Хрущев якобы в защиту реалистического искусства.
На другой день после этой встречи в «Манеже» ко мне заехал Александр Михайлович и сказал, что газета «Труд» заказала ему статью о положении в изобразительном искусстве в связи с речью Хрущева.
В его приезде не было ничего необычного, поскольку и до того он часто бывал у меня дома и один, и вместе с нашим общим другом народным артистом из МХАТа Алексеем Васильевичем Жильцовым. Удивило меня то, что именно Герасимову — опальному экс-президенту — многотиражная газета предложила свои страницы. Конечно же, он просил «помочь» ему со статьей. На практике это означало написать за него. Это в наши дни газеты стали брать интервью у тех деятелей, которые сами не могли изложить свои мысли на бумаге.
А в то время было обычным, когда под статьей, написанной журналистом-профессионалом, стоит имя автора: будь то художник, генерал, ученый или рабочий. Мне самому приходилось писать и за С.М.Буденного к юбилею Первой конной, и за многих художников. В частности, половина статей в книге Евгения Вучетича «Художник и жизнь», а также Николая Томского «Прекрасное и народ» написаны мной. И Герасимов не был исключением. Для журналиста, проработавшего в центральной печати четверть века, в том числе иностранным корреспондентом «Известий» и специальным корреспондентом «Красной звезды» и «Советского флота» не составляло проблемы написать такую статью. Отказать Александру Михайловичу я не мог, но поставил условие — провести в статье стратегическую мысль: пока на руководящих постах в области идеологии и культуры будут стоять сторонники так называемой консолидации, поклонники западной псевдокультуры, борьба за реалистическое, подлинно народное искусство будет бессмысленной. Вопрос упирается в кадры. Герасимов согласился, и статья, к удивлению, без купюр был опубликована. В тот же день ко мне на квартиру позвонил зам. ответственного секретаря газеты «Известия» мой приятель Анатолий Никольский и взволнованным голосом сказал, что нам нужно встретиться и немедленно. Я согласился. Встретились «на нейтральной полосе», но вдали от дома «Известий».
— Над тобой нависла большая беда, — таинственно начал Анатолий и продолжал: — Сегодня я с оттиском полосы зашел к главному (к Аджубею). Он разъяренно кого-то распекал по телефону: «Мы знаем, что эту статью писал Шевцов, это его почерк. Но как ты мог пропустить абзац о кадрах, о замене кадров. Да это же о нас с тобой». Тут я понял, что он разговаривает с главным «Труда».
— Ну и что за беда? — спокойно сказал я.
— Ты слушай дальше. Он сказал: «С Шевцовым мы разделаемся. Мы сотрем его в порошок». Понял? А Аджубей слов на ветер не бросает. У него неограниченная власть. Он жесток и кровожаден. Ты должен что-то предпринять.
Кто такой зять Хрущева, Аджубей, «надменный временщик и подлый и коварный», «околорадский жук», как называли его московско-украинские остряки (женат на дочери Хрущева Раде, отсюда «околорадский»), я прекрасно знал, хотя встречался с ним в застояльной компании лишь один раз. В мастерской народного художника и моего фронтового друга-пограничника Павла Федоровича Судакова однажды появился и Аджубей, — привели его писатели Николай Грибачев и Анатолий Софронов. Первый в то время был главным редактором журнала «Советский Союз», второй — главным «Огонька». С ними у меня были дружеские отношения, но появление Аджубея меня удивило. Были тут А. Герасимов, Е.Вучетич, А.Жильцов, А.Лактионов и два-три поэта. Пили, разумеется, не только чай: Аджубей был в тесной дружбе с Бахусом. И вот в процессе застольного разговора Александр Михайлович вдруг ни с того ни с сего спросил Аджубея, кто он по национальности и откуда такая фамилия. Тот, и так розовощекий, зарделся как помидор, налитые кровью глаза сощурились. Аджубей, конечно, знал расхожую байку о Герасимове, который якобы, встретив нового человека, тотчас же спрашивал: «Милый, не томи, скажи, ты еврей или не еврей?» Это была обычная сионистская ложь. Чтоб предотвратить возможный скандал, я, сидевший рядом с Герасимовым, недвусмысленно наступил ему на ногу и поспешно ответил за Аджубея:
— Очевидно, кубано-казацкая: Кочубей, Аджубей.
— Ах, верно, да-да, — смущенно согласился Герасимов и тут же пригасил Аджубея посетить его мастерскую. Тот, надутый, как клоп, ничего не ответил.
Я поблагодарил Никольского за внимание, но к угрозе Аджубея отнесся спокойно. Что он мог со мной сделать? Военный пенсионер, я нигде не служил. Доступ в печать для меня и до того был перекрыт. Конечно, могли перекрыть и доступ в издательства, в Союз писателей, который мы тогда называли синагогой, несколько 80 процентов членов московской писательской организации были евреи. Не зря же старейший поэт Иван Молчанов, когда его симоновские «шестидесятники» исключили из Дома литераторов, дал в адрес К. Симонова такую телеграмму:
У каждой банды свой закон,
Свои пути, свои дороги.
Толстой от церкви отлучен,
Я отлучен от синагоги.
Александр Михайлович воспринял свою отставку как трагедию и недоразумение. В нем еще теплилась надежда на возврат, что его еще позовут. Особенно после выступления Хрущева в «Манеже». Он искал подходов к Никите. И ничего другого не находил, как старый испытанный с Ворошиловым метод: начал писать картину большого размера «Сталинград». В центре ее, на левом берегу Волги стоят с биноклями два «полководца», два «спасителя России» — командующий фронтом А.И.Еременко и член военного совета фронта Н.С.Хрущев и наблюдают за правым берегом, где идет жестокое сражение. Я увидел эту картину еще в процессе работы. Александр Михайлович ждал, что я скажу. А мне она как-то сразу напомнила его «На страже Родины», и первыми моими словами было: «Два вождя после дождя». Он обиделся, но смолчал. Тогда я дружески сказал: