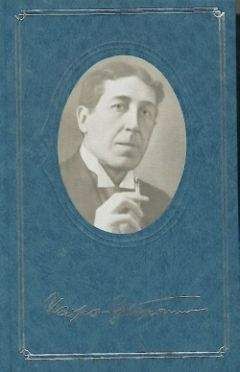…Я прочел пришедшему Фофанову свое новое, только что законченное стихотворение, и с каким искренним восторгом он выслушал его, как обнимал меня, растроганный и восхищенный. «Вот как надо писать, радость моя! — говорил он со слезами на глазах. — Забудь все декадентские исхищрения, они тебе не к лицу. Пиши всегда так же просто и ясно, как написал этот „Весенний день“, и ты будешь всенародным русским поэтом. А теперь я пришел к тебе напомнить, что жду тебя и твою маму к себе в Сергиево 8 мая — в день моего рождения. Приезжайте обязательно и помните, что особых приглашений в этот раз не будет. Так смотрите же, будьте непременно».
Посидев около часа, гости ушли, а уже 10 мая, т. е. через пять дней после их посещения, в «Биржевых ведомостях» появилось сообщение о серьезной болезни Фофанова. Тотчас же я собрался поехать в Сергиево, взволнованный этим известием. В это время приехал за мной Леонид Николаевич Афанасьев, весьма встревоженный и расстроенный тем же, и мы отправились с ним к больному.
Застали его в постели, — как всегда, без гроша в доме. Он жаловался на боли в левом боку, кашлял, но был весел и оживлен, по обыкновению много шутя и развлекая нас остротами и эпиграммами преимущественно на высочайших особ. Он потребовал, чтобы жена распорядилась послать за водкой и, несмотря на наши протесты и на доводы о вреде вина во время болезни, водка все же была добыта, и мы принуждены были, скрипя сердце, выпить с ним несколько рюмок, Афанасьев наверняка не более одной.
Пробыв у больного до позднего вечера, мы с Афанасьевым возвратились с последним поездом в Петербург, вполне успокоенные состоянием здоровья Константина Михайловича и негодуя на преувеличенные газетные сведения… Можно представить себе поэтому наше изумление, когда через два дня в той же газете и в «Новом времени» появились заметки об ухудшении здоровья поэта и о переводе его в закрытом автомобиле на Васильевский остров, в лечебницу доктора Камераза.
Мы бросились по указанному адресу и нашли нашего друга в большой светлой палате, до неузнаваемости исхудавшего, пожелтевшего, обстриженного «под ноль», с выбритой бородой и усами. Вскоре появился Аполлон Коринфский, и мы учредили нечто вроде дежурства у постели больного. Доктор Камераз, сердечно предоставивший поэту палату и лечение совершенно безвозмездно, покачивал головой и не скрывал от нас серьезности его положения. Три болезни одновременно — воспаление левого легкого, нефрит и белая горячка — овладели несчастным. Он был еще в полном сознании, лишь по временам впадая в бредовое состояние. Камераз поддерживал его шампанским.
Всю эту неделю, до последнего часа своей жизни, он не переставал водить рукой по стене, как будто что-то писал: очевидно, творчество не покидало его до самой смерти. Бросалось в глаза полное отсутствие людей искусства, которым даже в голову не приходило навестить больного, хотя бюллетени о его здоровье печатались в газетах ежедневно. Лидия Константиновна, жена Фофанова, в это время проживала в нашей квартире на Средней Подьяческой 5, ежедневно навещая мужа.
Семнадцатого утром, оставив Афанасьева у постели больного, я выехал на станцию Елизаветино по своим делам. Возвратясь около трех часов дня, я наскоро пообедал и, почему-то переодевшись в чужой сюртук, поспешил без «особых приглашений» в лечебницу. Там я спросил у одной из сиделок, встреченной мною в коридоре, о здоровье больного. «Он скончался сегодня», — был ее ответ.
Я вошел в зал, где шли приготовления к первой панихиде. А. А. Измайлов и И. Ясинский были уже там. Отведя Измайлова в сторону, я спросил у него, где и на какие средства он предполагает хоронить поэта. «Видите ли, деньги на похороны дают редакции „Биржевых ведомостей“ и „Нового времени“. Что же касается места погребения, я думаю, лучше всего избрать Волково кладбище, на Литературных мостках которого спят
Тургенев, Надсон и другие писатели». — «Да, но известно ли Вам, — спросил я у него, — что у Фофанова было определенно выраженное желание, чтобы его похоронили непременно в Новодевичьем монастыре, о чем он неоднократно мне упоминал, а в последний раз, когда пятого мая, на вид совершенно здоровый, посетил меня, он еще раз напомнил мне об этом, обронив следующую знаменательную фразу: „А мне что-то все нездоровится последнее время. Помни, радость моя, когда я умру, обязательно настаивай на Новодевичьем. Только не на Волковом!“ — почти злобно закончил он».
Измайлов выслушал меня внимательно, но отказал, мотивируя это безумной дороговизной мест на кладбище Новодевичьего монастыря. Редакции же, по его словам, таких расходов нести не пожелают. Тогда я призадумался, искренне огорченный. Вдруг меня осенило. «Костя, — сказал я, обращаясь к сыну покойного, — сделаем так, чтобы воля твоего отца была выполнена». Но Костя, совершенно растерянный, никаким советом помочь мне в моем намерении не мог. Тогда я, взяв его с собою, направился, влекомый интуицией, в редакцию «С.-Петербургских ведомостей», предварительно узнав цену могилы, и просил лакея доложить о нас князю Эсперу Эсперовичу Ухтомскому, которого до этого дня лично не знал вовсе.
Когда, минут десять спустя, мы были приняты им, я обратился к нему со следующими словами: «Как Вам известно, умер Фофанов. Его воля: быть похороненным на кладбище Новодевичьего монастыря. Эта воля для нас с ним (я указал на Костю) — священна: он его сын, я — друг и сам начинающий поэт. Обращаюсь к Вам как к поэту и человеку: дайте двести пятьдесят рублей — разницу стоимости мест на двух кладбищах, и Вы выполните свой долг, долг художника». Князь Ухтомский мгновенно выполнил мою просьбу, и, когда я стал благодарить его, он остановил меня одной фразой: «Не Вы меня, а я должен благодарить Вас за любовь к поэту, за стремление выполнить его волю». Мы с Костей отправились в монастырь и выбрали место рядом с могилой Врубеля.
Двадцатого мая состоялись похороны. Князь Ухтомский принимал в них живейшее участие. Публики было немного: человек триста. Литературный мир по-прежнему блистал своим отсутствием… Перечислю присутствовавших: Леонид Афанасьев, Аполлон Коринфский, М. О. Меньшиков, Владимир Лебедев, И. Ясинский, А. Измайлов, доктор Студенцов, полковник И. А. Дашкевич и… публика. Мы читали стихи, возмущались равнодушием людским и разошлись по домам. У нас состоялись поминки.
Так был похоронен выдающийся русский поэт, временами достигавший гениальности! Он умер пятидесяти лет, и, если и дожил до этого возраста, то благодаря лишь А. С. Суворину, дававшему ему ежемесячно пятьдесят рублей, и Академии Наук, откуда он получал по двадцать рублей в месяц. Все же остальные заработки, как у чистого поэта, бывали случайны и более чем эфемерны.
Озеро Uljaste
Декабрь. 1923
О творчестве и жизни Фофанова
Творчество Фофанова полярно: с одной стороны жалкая посредственность, с другой — талант, граничащий с гением: «Скорей в постелю, поэтесса…» и «Я сердце свое захотел обмануть, А сердце меня обмануло…» написано одним и тем же автором! Этому даже поверить трудно, однако это так. И у него это постоянно. И сколько раз Академия Наук не присуждала из-за этого Пушкинской премии, награждая ею стихотворцев, талантливость которых более чем сомнительна и идти в сравнение с фофановской вовсе не может. Но зато у них не было того, что сплошь и рядом портило строфы Фофанова: вопиющей небрежности, необдуманной нáскорости.
Я предложил как-то в Москве своему издателю, ныне расстрелянному, В. В. Пашуканису, издать сборник избранных стихов Фофанова. Пашуканис, Человек с университетским образованием, вдобавок обладавший большим вкусом и сам писавший далеко не дурные стихи, сначала улыбнулся моему предложению, но, когда я стал приводить ему перлы поэта, улыбка сошла с его лица, и он с большим вниманием слушал замечательные стихи, которые я выискивал в фофановских книгах. В заключение было решено издать книгу страниц в сто, не более, и тогда-то, можешь представить себе, русский читатель, какое сокровище истинной поэзии было бы у тебя в руках! Это была бы воистину изумительная книга, да она и будет со временем, если только Господь продлит мою жизнь, ибо я знаю, что выбрать из Фофанова и что забраковать.
Тогда наша идея, пришедшая нам в головы, к сожалению, слишком поздно, не осуществилась из-за… осуществленной революции, отвлекшей людское внимание от печатного художественного слова. Теперь же у меня нет под руками ни всех книг Фофанова, ни — и это самое главное — тонкого, интеллигентного издателя во вкусе Пашуканиса. Поэтому «Звезды ясные», как думал я назвать эту книгу, не изданы до сих пор.
В чем главная сила, в чем же очарование фофановской музы? Я думаю, прежде всего, в его лирике северной весны с ее белыми ночами, такими больными и призрачными, с ее утонченным целомудрием, с почти безуханными ароматами, — прежде всего, думаю я. Ни у одного из русских поэтов нет того, что вы найдете у Фофанова относительно северной весны: ее души, ее aромата, повторяю, почти недушистого, но такого пленительного своими возможностями, что эта недушистость. душистее всякого яркого аромата, ибо в ней он только подразумевается, но передан и запечатлен и именно в силу этого обстоятельства своей неопределенности насыщен истинным свойством благоухания точного, неприкрашаемого, не преувеличенного ничем. Вот это-то и есть, по-моему, отличительная черта его лирики, в этом-то и таится вся ее душа — все ее непередаваемое обаяние, которое не подлежит никаким анализам, никакой формулировке. Его импрессионизм можно постараться обозначить лишь импрессионистическим способом.