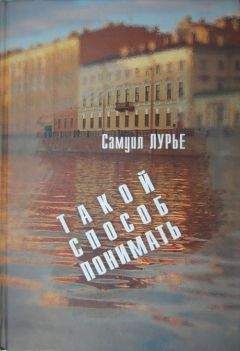Войлок рос на входных дверях, тяжело клубился под скользкой клеенкой, вытекая из порезов…
Жить было душно, но не холодно.
С тех пор климат стал мягче, одежда — изящней, вата — дороже, дрова и валенки петербургский ребенок представляет по картинкам, — и нынешней зимой разговоры такие:
— Лучше всего найти где-нибудь кирпич и раскалить его на газовой конфорке. Потом поставить в комнате на что-нибудь железное. Кирпич, знаете ли, отлично держит тепло…
Наши сети, оказывается, прохудились: теплосеть, электросеть и прочие.
Наши сети совершенно неожиданно притащили нежелательного незнакомца.
Вдруг мы осознали, что под Петербургом ходит ходуном, плещет черными волнами ледяная тяжкая грязь и наша сосудистая система в ней застывает и рвется.
Почти три века источником тепла был рабский труд и обеспеченная им дешевизна топлива.
Хотя уже полтораста лет назад иностранные путешественники предупреждали: ресурс не бесконечен, и рано или поздно Петербург придется обогревать бумагами из бесчисленных канцелярий. Правда, они недооценивали вклад Тимофея Ермака в нашу энергетику.
А теперь вот и линии, соединяющие дело Петра с делом Ермака, прерываются. Хозяйство — так называемое жилищно-коммунальное — поражено склерозом. И вся надежда — на раскаленный кирпич.
Судя по всему, и в умах начальников происходит то же самое, что с этими несчастными трубами и проволокой в зыбкой глубине, у нас под ногами. Все проржавело и перепуталось. И, поспешая по грязным улицам из холодного, темного жилья в холодную, темную контору, бедный петербуржец, пешеход поневоле (потому что неуловим и почти несовместим с жизнью так называемый общественный транспорт), Маленький Человек-2003 то и дело упирается глазами в огромную цветную открытку: яркощекий такой жизнелюб в ярмарочном халате, имея в одной руке бокал, кажет населению три пальца другой руки. Дед Мороз, он же — губернатор. И эта шарада обозначает, по-видимому, что все обстоит отлично.
Зима! Начальство торжествует! И мы тоже должны быть особенно счастливы в этом году: потому что ровно три столетия назад одному человеку пришла в голову одна безумная мысль.
Сама по себе, впрочем, красивая — даже слишком красивая для России — «страны, — писал Белинский, — где наконец нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».
Петр Великий, похоже, не умел мерзнуть. Бывают такие люди. Пушкин вот тоже совершенно не чувствовал холода. Знай ликовал: как жарко поцелуй пылает на морозе! как дева юная свежа в пыли снегов!
Гоголь был устроен — да и одет! — совсем по-другому; не выдержал, сбежал в Италию, оттуда рифмовал: Петербург — снега — подлецы — департамент; вполне современный, не так ли, пейзаж?
Но первым, кто сказал вслух, что Петербург — синоним холода и что холод — почитай, синоним смерти, — был Некрасов. В нищей юности как-то случилось ему провести на петербургской улице — в одном пиджаке или там сюртуке — чуть не всю ноябрьскую ночь напролет. При слове «Петербург» его стихи стучат зубами.
Помнишь ли день, как больной и голодный
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему?
Став богачом и знаменитостью, Некрасов не утратил чувства реальности — главного петербургского чувства: как бы ни блистали в театральной, допустим, зале хрустальные люстры и дамские декольте, не забывай — снаружи, на улице, смертельно холодно и не всем пешеходам суждено воротиться домой. Ночь и зима со всех сторон обступают сияющую столицу — и жаждут ее поглотить. Лови, лови световой день, беги, беги среди сугробов, горожанин!
Двадцать градусов! Щеки и уши
Не беда, — как-нибудь ототрем!
Целиком христианские души
Часто гибнут теперь…
И далее — все, как теперь, как в сегодняшней газете…
Что ж! Раскалим кирпич, запалим свечу и, пока телевизор, обесточенный, не лжет, будем читать Некрасова. Новые смыслы открываются, ей-богу. Вот, например, все думают, что труб заунывные звуки — это какой-нибудь духовой оркестр проходит под окном. Ничего подобного! Дело происходит в петербургской мансарде — и слышно, как завывает в дымоходах ветер. Прислушайтесь: органная сюита. Юбилейная. Исполняют петербургские дома под управлением Зимы.
15 января 2003
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИВИДЕНИЯ
Вот и с Башмачкиным известное несчастье случилось тоже на Сенной. «Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света». Другой такой петербургской картинки на бегу от центра к окраине больше негде было увидать в том столетии: точно — Сенная! Так что будьте осторожны, водители автомашин, миновав эту площадь: в переулках, разбегающихся от Садовой улицы к Фонтанке и Мойке, а также и на набережных каналов — Екатерининского и Крюкова — не вздумайте тормозить, если в зеркале заднего вида вдруг покажется, страшно приблизившись, бледное, как снег, несчастное лицо. Не тормозите и ни в коем случае не приоткрывайте дверцу. Жмите, наоборот, на акселератор, или как он там у вас называется. Потому что в этих местах обитает городское привидение — Маленький Человек. Он попытается, пахнувши на вас могилою, завести такую речь: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!» В этом случае улепетывайте не отвечая, не оглядываясь. И сразу же, сразу же позабудьте то ужасное, что он прокричит вам вслед, эти роковые четыре слога…
Дело в шляпеНа самом-то деле не надобна ему наша верхняя одежда. «Шинель» — это так, для завязки разговора, вроде как пароль. Так уж получилось, что Маленький Человек при первом своем появлении в нашем городе (вернее — в нашем уме) выпал, с позволения сказать, из шинели:
И так, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель…
Дело было 6 ноября (1824) — то есть в такое время года, что и по новому стилю холодно. А вообще-то, главный аксессуар Маленького Человека — отнюдь не шинель. Есть в его обиходе предмет гораздо необходимей, отсутствие которого — сигнал бедствия, социального либо стихийного:
…Он не слыхал
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал…
Прибавив незабываемое деепричастие «пришед», получаем словесный портрет Маленького Человека, позволяющий опознать его на любой старинной литографии: это пешеход в шляпе. Тот, кто, подобно абсолютному большинству, передвигается по стогнам столицы в любую погоду не иначе как на своих двоих, — но выделяется из толпы головным убором: это не фуражка, тем паче не картуз и, боже упаси, — не шапка.
В шапках щеголял в XIX веке так называемый народ, на первых порах отличаясь от Маленького Человека также и тем, что не возбуждал в литературе сострадания. Когда Александр Башуцкий, первый русский социолог (между прочим, камергер и действительный статский советник), напечатал (1842) очерк, в котором намекнул, что разносить воду по петербургским квартирам — ничуть не легче и не прибыльней, чем, например, переписывать канцелярские документы, и, если вдуматься, оброчный крестьянин, занятый подобным бизнесом, влачит еще более печальную жизнь, чем какой-нибудь Акакий Акакиевич, — социолога распек не только Бенкендорф, но и сам Белинский!
Нечего, мол, выдавать правду факта за правду жизни. И вообще — с чего вы взяли, будто человеку в шапке бывает больно существовать?
«Может быть, в Петербурге и найдется один такой водовоз-горемыка, какого описал автор; но в каком же звании не бывает горемык? — А между тем никто не скажет, что каждое сословие состоит из одних горемык. Автор описывает водовозов хилыми, хворыми, бледными, больными, искалеченными. Мы, тоже имевшие и имеющие с ними дело, подобно всем петербургским жителям, привыкли видеть в водовозе мужика рослого, плечистого, крепкого, для которого лошадиная тяжесть — нипочем… Не бойтесь за него, видя, что он всегда на воздухе, на холоду, на сырости: оттого-то именно он в 80 лет и будет здоровее, чем вы в восьмнадцать… Не приходите в ужас, видя, что он живет в такой конуре, где у вас закружится голова и жестоко оскорбится обоняние: это его вкус, его привычки; дайте ему пожить в ваших великолепных комнатах только три дня — он сделает из них свой подвал… Водовоз много и тяжело трудится: да кто ж мало и легко трудится? Уж конечно, не я, бедный рецензент…»