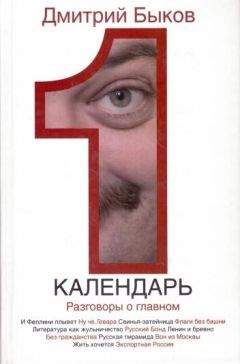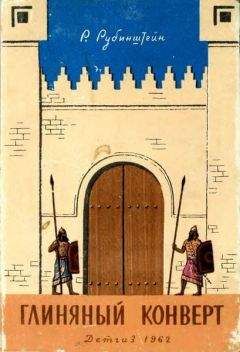Почти все великое создается с невинными и скромными намерениями. Тридцатидвухлетний оксфордский математик искренне пытался развлечь во время летней прогулки по жаре трех дочерей своего декана Генри Лидделла — Алису, Шарлотту и Эдит. Он проплыл с ними в лодке от моста Фолли до деревни Годстоу, название которой в переводе означает «Божье урочище», и все три часа пути потешал всякой ерундой, которая лезла в голову, причем Алиса требовала, чтобы приключения были как можно более дурацкими, а Эдит беспрерывно перебивала рассказчика вопросами. Девочкам так понравилась сказка, что они потребовали ее записать; Доджсон, уже пять лет к тому времени сочинявший юмористические рассказы и печатавший их в приложении к «Таймс», и сам оценил собственный абсурдный вымысел и к Рождеству записал историю, а потом, расширив почти вдвое, издал (1865). С тех пор имя Алиса сделалось культовым, а сновидческий, абсурдистский метод, к которому прибегнул автор, породил целую школу, лучшим учеником которой был, конечно, Кафка, но и Чапек в «Кракатите», и Лем в «Рукописи, найденной в ванной», и Стругацкие в «Улитке на склоне» прилежно учились у Кэрролла. Набоков отлично перевел ее на русский (хотя канонический перевод Нины Демуровой, пожалуй, веселей), но если бы не работа над «Аней в Стране чудес», еще неизвестно, что бы получилось из «Приглашения на казнь» или «Bend Sinister».
В детстве «Алиса» стала едва ли не самым большим моим читательским разочарованием — я ждал от этой сказки Бог весть чего, а она оказалась скучной и мрачной, как дурная бесконечность детского кошмара. В ней хватало смешного, но шуточки были пугающе алогичны, и вообще, мне кажется, эта книга не для детей, хотя и среди них находятся любители абсурда. Я оценил ее значительно позже, курсе на втором, и считаю одним из лучших исследований по психологии тоталитаризма. Почему для антитоталитарной фантастики лучше всего годится метод Кэрролла, пространство сна? Потому что тоталитаризмом как раз и называется образ жизни (и мысли), управляемый не логикой, а больной, извращенной прихотью. Так устроены наши кошмарные сны, в которых нами тоже распоряжается чужая воля. Сон складывается из хаотически смешанных картинок нашего опыта, и перезапустить его сценарий мы бессильны: мозг избавляется от того, что его мучает, и мы не можем заставить его бросать эти картинки в топку в строго определенном порядке. Как хочет, так и тасует — отсюда навязчивый кэрролловский образ карт. Сон разума рождает чудовищ: сознание спит, усыпленное усталостью, снотворным или массовым гипнозом, хлещущим из телевизора. С этого усыпления сознания, кстати, и начинают все диктатуры. А потом пирует подсознание, не желающее знать законов, правил и ответственности. В кошмарном сне человек ничего не значит — что захотят, то с ним и сделают. Это абсолютное бесправие может позабавить, потом испугать, а потом взбесить, как и происходит с Алисой. Правда, последовательность у всех разная, и, может, только по этому принципу и стоит классифицировать людей: герой Стругацких сначала злится, потом забавляется, а потом боится (потому что иррациональная сила, с которой он столкнулся, оказывается ужасней, чем он предполагал). А герой Набокова сначала гневается, потом боится, а потом хохочет, как в «Истреблении тиранов», — и этим смехом побеждает Благодетеля. История Алисы последовательно проходит через эти три фазиса — гротеск, паника, протест. Ее негодующий крик «Вы ведь всего-навсего колода карт!» страшным эхом отозвался в реплике Пастернака в разговоре с Тарасенковым о том, что в сталинизме нельзя искать логику: «Мы тасовались, как колода карт». Пастернак читал и ценил «Алису».
Все персонажи тоталитарного социума налицо: есть нерассуждающая власть, у которой на все один ответ: «Голову долой!» Есть трепещущий подданный, беспрерывно восклицающий: «Мои ушки! Мои усики!» Есть соня-обыватель, ввергший себя в полное безразличие, и комедия суда (позаимствованная у Рабле и доведенная до совершенства у Кафки), и даже хитро замаскированный диссидент, которого не видно — видна одна улыбка, но она-то и внушает надежду, что жизнь возможна. Есть бесчеловечная игра в крокет — надо хватать фламинго и бить ими по ежам, но Алисе их жалко, и фламинго ей подмигивают и убегают, а ежи успевают развернуться и потрусить прочь. Есть и главная примета закрытых обществ: беспричинные вознесения и низвержения, наказания и поощрения (отсюда постоянные скачки — Алиса то великанша, то карлица). Наличествует и «задаром данная блаженная еда» — разумеется, поддельная, как все дармовое: квазичерепаший суп из черепахи Квази, предрекая войновичевскую «свинину по-вегетариански». И не надо говорить, что Кэрролл всего этого не имел в виду: он тоже позволил своему сознанию ненадолго отключиться в жаркий оксфордский день. А в подсознании у него сидели нормальные страхи интеллигента Викторианской эпохи — деликатного, одинокого, задавленного бюрократизмом и ханжеством. Плюс, говорят, тайное гумбертианство, которому он давал волю лишь как вуайер, но наказания боялся все равно. Так что веселым сказкам в духе Милна взяться было неоткуда.
«Алиса» ставит перед читателем вечный вопрос: хорошо, вот ты попал в мир, где все не по-людски и все представления вывернуты. Делать-то что, вести себя как? Алиса пробует разные варианты: сперва ей просто весело, как всякой девочке, уставшей от строгого порядка и попавшей в царство Великой Путаницы. Веселились, было, помним. Потом, как и положено воспитанному человеку в невоспитанном мире, она пытается подладиться, играть по правилам, пока не понимает, что правила отсутствуют. Она и сама хотела бы поучаствовать в абсурде, но здешний мир переабсурдит все ее жалкие попытки. Дальше начинается ужас, потом гнев — и вожделенное пробуждение. Ребенка-то задурить трудней всего, что и показал Чаплин в «Малыше»: он интуитивно понимает, кто хороший, а кто плохой. Ведь именно ребенок в сказке другого тихого одиночки догадался о наготе короля — и с детской прямотой развеял чудеса политического пиара.
Видимо, надо просто помнить: все они только карты, а их морок — только сон; так, в полном соответствии с кэрролловским каноном, пробуждается профессор Круг в финале самого страшного романа Набокова. Можно смеяться, можно и гневаться; главное — не играть в этот их крокет, не хватать фламинго за ноги и не бить по ежам. Тот, кто заиграется по этим сонным правилам, может никогда не проснуться.
20 января
Родился Федерико Феллини (1920)
Задолго до своего девяностолетия, имеющего быть сегодня, Феллини стяжал репутацию художника светлого, жизнерадостного, всеприемлющего — крылатой стала фраза Никиты Михалкова о том, что улыбка Федерико взошла над миром, как солнце; воистину «что пройдет, то будет мило». Это тем более удивительно, если вспомнить, что Феллини на протяжении сорокалетней режиссерской жизни только и делал, что переживал кризисы и об этих кризисах снимал. Каждая его новая картина — а явных провалов не было — встречалась дружной руганью прежних поклонников, хоть и приводила к нему толпу новых адептов. Ина Туманян, превосходный режиссер, одна из моих гуру в молодости, рассказывала, как некий мэтр ВГИКа каждый новый фильм Феллини встречал словами «Феллини кончился!», и после «Сатирикона» она не выдержала: «Чтоб ты так начался, как он кончился!». Но отказать этому мнению в известной справедливости нельзя: Феллини раз пятнадцать кончался, чтобы начаться заново. Вспомним: «Дорогу», стяжавшую ему всемирную славу, называли концом неореализма, а то и предательством его идеалов — что это за христианская притча вместо социального протеста? Что это за поэтизмы вместо суровой правды?! Сам он счел картину полным провалом и впал в депрессию, не вполне излеченную даже «Серебряным львом». «Сладкую жизнь», феерическую фреску, из которой выросла половина кино шестидесятых, связывали с кризисом нарратива, сюжета, осмысленного законченного высказывания, — после «Восьми с половиной» эти упреки зазвучали крещендо. Никого — в том числе, кажется, самого Феллини, нашедшего финал после полутора лет мучительного разлада с собой и материалом, — не утешал тот факт, что в последнем танце вокруг фантастической и абсурдной декорации разбитая жизнь склеивается, мозаика складывается: сегодня получилось, завтра может не получиться. Мир разорван непоправимо. Всю вторую половину пути Феллини ностальгически вспоминал об утраченной гармонии — а где она была, эта гармония? В «Мошенниках», может быть, которых только ленивый не пнул все за ту же эклектику? Общим местом стало утверждение, что в семидесятые годы Феллини так и не создал ничего равного первым шедеврам, и я бы под ним охотно подписался, если бы первым его фильмом, который я увидел, не был «Казанова», демонстрировавшийся во Дворце молодежи по случаю гласности в 1986 году. Три дня подряд его показывали, и три дня подряд я на него ходил, и три раза постыдным образом утирал мокрые глаза в сцене, где карлики купают великаншу. Я не знаю лучшего фильма о душе Европы, о самой ее сущности, о туманных дорогах, по которым катят фургоны бродячих циркачей, о невероятном, никогда больше не повторявшемся сочетании утонченности и брутальности, жестокости и сантиментов — они отлично стыкуются и взаимно дополняются только в одном занятии, которому и предается Казанова, главный любовник Венеции. И оттого при всей механистичности, кукольности и условности секса в этой вполне бурлескной картине она говорит о любви — в том числе и физической — что-то несравненно более тонкое и важное, чем весь Пазолини, которого Нагибин назвал «осатанелым» по сравнению со «стыдливым» Федерико. Каково же было мое изумление, когда я узнал, что «Казанова»-то как раз самый кризисный фильм Феллини, который сам он полагал главной неудачей; любимый киновед назвал это кино самым явным провалом мастера, и я в священном ужасе вообразил, каково же должно быть остальное. Это остальное как раз не особо вдохновляет меня самого — скажем, «Ночи Кабирии» я остерегся бы называть вершиной по причине их откровенной простоватости, столь отчетливой сегодня даже в знаменитом финале; но тут уж, наверное, неправ я — каждый должен быть хоть раз неправ перед Феллини, ибо любить все его творчество, состоящее из непрерывных самоотрицаний, воля ваша, невозможно. Человек, снявший «Репетицию оркестра» — самый знаменитый и широко толкуемый фильм о кризисе искусства как такового и о невозможности спасти его иначе как через железную самодисциплину, а то и прямое принуждение, — вряд ли может претендовать на звание гармоничного художника. Да вряд ли и дорожил бы им.