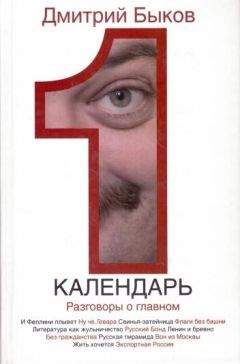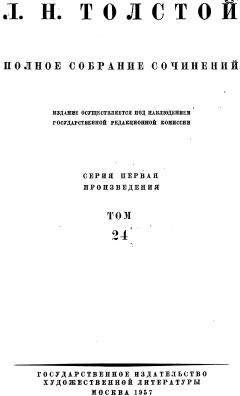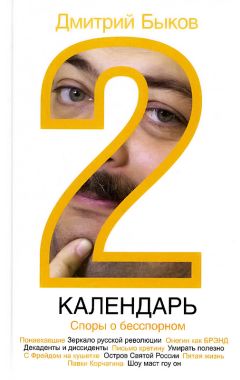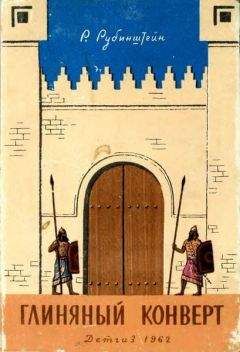Скажу больше: я тут представил, как выглядел бы любой из сюжетов Феллини — радостного нашего Федерико! — в исполнении российских режиссеров. Не идеологизированных, нет, не советских — от тех худсоветы требовали «луча света», не то бы тоже изгалялись над зрителем, как могли, — а от нынешних или хотя бы семидесятнических, когда уже вовсю сквозило в щели. Представьте себе, во что превратилась бы «Дорога» с полоумной Джельсоминой, «Сладкая жизнь» с утратившим смысл жизни гламурным журналистом («В движении», впрочем, уже снят), а про «Джинджер и Фред» с двумя престарелыми танцорами я уж не говорю. В лучшем случае это была бы Кира Муратова — как в «Мелодии для шарманки», вышибающая из зрителя слезу коваными сапогами, — а в худшем — Балабанов, едва ли не самый талантливый режиссер сегодняшней России, который, однако, каждым своим фильмом словно мстит зрителю: меня все это мучает, так пусть и тебя доест!
И знаете, какой вывод я из всего этого делаю, дорогие сограждане и созрители? Что мы с вами, в сущности, глубоко благополучные люди. Даже слишком благополучные, если всмотреться. Потому что для нас с вами сюжеты Феллини — нечто из ряда вон выходящее, а кризис — что-то исключительное. А для него это — нормальное состояние жизни, и более того — повод воспринимать ее как подарок. Кризис — слава Богу, значит, она развивается и продолжается, значит, не зажирели! И в этом смысле сегодня он безусловно самый востребованный и насущный режиссер — нужней, чем трагический Антониони, в паре с которым они так и воспринимаются многими, как Мандельштам с Пастернаком. Считается, что люди нервные и желчные любят «Ночь», «Крик» или «Забриски пойнт», а толстые жизнелюбы с образцовым душевным здоровьем — «Кабирию» или «Дольче Виту»; но если бы ледяные герои Антониони знали хоть малую толику того отчаяния, той бешеной неврастении, которая в каждом кадре трясет Федерико и его любимцев! К нему образцово приложимо то, что Борхес сказал о Честертоне, тоже якобы жизнерадостном (рискну даже сказать, что Честертона это касается в куда меньшей степени): весь его оптимизм — ширма, которой автор заслоняется от непрерывного ужаса, от экзистенциальной дрожи, от врожденного ощущения дисгармонии! Все это — зыблющийся покров травы над болотом. И это — норма жизни. И это — подарок, повод улыбнуться, как улыбается блаженная Кабирия или придурковатая Джельсомина. Или небывалая, никогда не встречающаяся в жизни девочка с побережья из «Сладкой жизни».
Можно представить себе, какое смешное, страшное и вопиюще неправильное кино снял бы он про нынешний кризис, столько раз им предсказанный, да, в сущности, и не прекращавшийся. Можно представить, как бы его разругали за очередной отход от себя и предательство всех законов жанра. И опять все сказали бы, что Феллини кончился, и опять это было бы правдой, потому что художнику важно не абстрактное совершенство, а рост.
По обыкновению, проверить эти соображения я решил в разговоре с любимым собеседником культурологом Андреем Шемякиным, известным в киносообществе способностью стремительно сгенерировать концепцию, из которой потом можно сделать диссертацию. Шем, сказал я, почему всякий ремейк фильма Феллини на любой другой почве обернулся бы трагедией? Ведь даже «Титаник» — тут-то влияния «Корабля» никто не отрицает — о том, как он тонет, тогда как у Феллини он все-таки плывет?!
— Очень просто, — немедленно отозвался Шемякин. — Это потому, что Феллини живет и работает в мире постапокалиптическом, где жизнь ежедневно воспринимается как чудо. А мы живем в мире отсроченного апокалипсиса, который всегда где-то впереди.
Золотые слова, братцы. Апокалипсис происходит ежедневно, и улыбка Феллини восходит именно над ним. У нас кризис, и значит, мы живые. Это вызов, смысл, норма, повод для высказывания, идеальная декорация для любви. Наша жизнь сладка. Наш корабль плывет.
27 января
Умер Д. Д. Сэлинджер (2010)
ВСТРЕТИМСЯ НА УГЛУ, или ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ КЛАССИК
1
Сэлинджер был последний русский классик. «Русский классик» — не столько национальная и хронологическая примета, не принадлежность к эпохе великих тысяча восемьсот шестидесятников, но психологический тип. Сэлинджер мог раздражать сколь угодно сильно, но он был из того теста, из которого делаются гении. Одна из примет этого типа — приступ глубокой депрессии по достижении потолка своих эстетических возможностей. Потолок может быть кажущийся — за ним еще один, — но для продолжения литературы, а по большому счету и жизни (потому что без литературы какая жизнь?) нужен резкий скачок в сторону. Тогда создается новое этическое учение, производится алогичная с виду поездка на Сахалин, случается уход в революцию; все это время тиранятся домашние. Многие пытаются оправдать уход в новую религию и сопутствующее ему домашнее тиранство гипотетической гениальностью, но сначала надо написать «Анну Каренину» или хоть «Выше стропила, плотники».
Почему происходит этот уход — можно спорить: одни скажут, что это точное (гениям вообще всегда присуща точность самооценки, по крайней мере в эстетическом плане) осознание исчерпанности, переход на новое пастбище, охота за впечатлениями. Есть мнение — не разделяю его, но понимаю, — что Лимонов создал партию не для борьбы за свободу и тем более власть, а для написания «Книги воды» или «Анатомии героя», книг, не уступающих ранним шедеврам, а то и превосходящих их. Очень возможно, что и поздняя деятельность Мисимы была той же природы. Толстой без опыта «Азбуки» и без участия в переписи не написал бы «Отца Сергия», лучше которого в русской литературе так до сих пор и нет ничего. Есть и другая версия — что по достижении в литературе определенного уровня, после которого иерархия уже неважна, а есть только категория «величие», писателю становится невыносима реальность, с которой он раньше мог мириться: теперь, ощутив всевластие над героями, он хочет подкорректировать и жизнь. Как правило, историческая реальность оказывается не податливей виртуальной, и в общественной деятельности ни один сколько-нибудь серьезный литератор на моей памяти еще не достиг результата, хоть отдаленно сопоставимого с его художественными открытиями; но с другой стороны — скудный пейзаж русской общественной жизни без толстовства со всеми его смешными крайностями был бы бедней, а чем была бы современная политика без НБП — даже представить скучно. Максимум того, что удается писателю, — объединение сравнительно небольшой группы единомышленников в организацию, которая ни на что особо не влияет, но планку нонконформизма задает. Люди с общественным темпераментом создают нечто вроде секты или партии, интроверты ставят рискованные эксперименты над собой — вроде упомянутого сахалинского путешествия; натуры универсальные делают сначала одно, а потом другое — вроде Толстого, который в конце концов ушел от всего, в том числе и от толстовства. Сэлинджер, конечно, никакого движения не создал — но для формирования поколения хиппи, думается, сделал больше, чем все битники вместе взятые.
Есть и третья версия, объясняющая, почему этот тип классика особенно распространен в России, а в мире скорей экзотичен. В какой-то момент — обычно как раз на пике творческих способностей — художнику становится стыдно жить прежней жизнью (полной, в частности, бытовых и политических компромиссов). Именно русская реальность с особенной силой отталкивает максималиста. Он хочет соответствовать высоте собственного этического учения, а это можно делать по-разному. Тот же Лимонов, в чьих книгах всегда проповедовались мужество и последовательность, с неотвратимой логичностью прошел путь от нервного, нежного, ироничного авангардиста до железного солдата, испытывающего себя все новыми вызовами. Подумать страшно, что два лучших его текста — «Дневник неудачника» и «Смерть старухи» — написаны одним человеком; но потому-то и страшно, что внутренняя логика этого пути очевидна, просчитываема. Сэлинджер весьма рано осознал, что жизнь преуспевающего, экранизируемого, интервьюируемого американского прозаика несовместима с этикой «Саги о Глассах», потому что это этика в какой-то степени самурайская, что и доказывается самоубийством Симора, — и не бросил писать, но перестал печататься. Это жест, типологически сопоставимый с уходом Толстого, с дальневосточным подвижничеством Чехова, самоубийством Маяковского, а в каком-то смысле — и с дуэлью Пушкина, ибо Первый Национальный Поэт не может позволить себе попадать в двусмысленные ситуации и должен разрушать их хотя бы ценой жизни.
Результат такого затворничества, рывка в сторону и вверх, — вещь спорная.
У Чехова, в день 150-летия которого я все это пишу, есть сравнительно малоизвестный рассказ 1888 года «Пари». Он, однако, был в детстве прочитан Грином, оказал на него решающее влияние и дошел до нас, так сказать, в гриновской адаптации, ибо стал для него навязчивой идеей: наиболее яркие его версии — превосходный рассказ «Вокруг света» и посредственная «Зеленая лампа». Внешний рисунок фабулы везде один: безумно богатый банкир заключает жестокое пари с нищим студентом, а когда подходит срок платить, банкир разоряется. У Чехова гости заспорили о том, что гуманнее — пожизненное заключение или смертная казнь. Двадцатипятилетний юрист изъявляет готовность за два миллиона просидеть в заключении хоть пятнадцать лет. Заключается пари. Условия заключения: острота соблазна именно в том, что можно в любую минуту капитулировать — и тогда выйдешь на волю, но останешься нищим. Выходить из комнаты нельзя; в комнату можно заказать вино и табак, любые книги в любых количествах — по первому требованию. Чехов тонко понимает эволюцию затворника: в первый год он начисто отказывается от вина, потому что оно разжигает желания, а в его положении от желаний один вред. В третий, напротив, вина требует — потому что начинает изучать богословие, а тут вино отнюдь не помеха и вообще экстатические состояния только на пользу. Узник осваивает языки, естественные науки, всемирную историю — а банкир все это время постепенно разоряется и, наконец, за сутки до выплаты, понимает, что двух миллионов у него нет, хоть застрелись. Стреляться он не намерен, банкиры делают это нечасто, — проще уж покончить с узником, но узник ровно за пять часов до срока сбежал из заключения через окно, на что всегда имел право. Иссохший, обросший седыми кудрями сорокалетний старик оставил записку: он постиг такое и продвинулся так далеко, что презирает и пари, и его условия, и два миллиона — не для того, в самом деле, он обрек себя на столь жестокий духовный путь, чтобы теперь взять у какого-то дурака какие-то деньги.