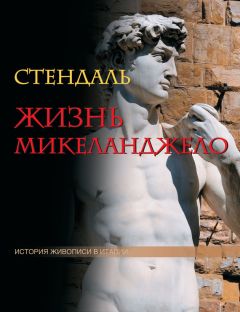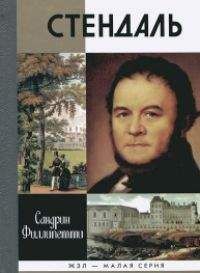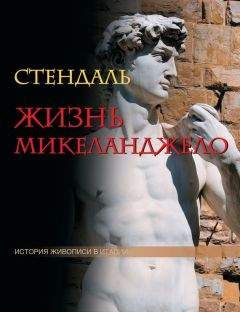Особенно нерушимой сохранялась в ней идея, какую составила она себе о семейном режиме и о том уважении, с каким должно относиться к материнскому авторитету. В то время не очень-то справлялись с её мнением, все решалось на основании государственных соображений, все, не исключая даже замужества её дочерей, и она чувствовала себя оскорбленной в своем достоинстве. Известно, что она порицала Наполеона за то, что он сделал себя императором. Она не могла скрыть от себя, что, по мере его возвышения, он все более и более отдалялся от неё. Сохранит-ли он еще то уважение, каким обязаны дети по отношению к своей матери. Сверх того, эта женщина, презиравшая этикет, отличалась крайней нерешительностью и щепетильностью во всем, что касалось личных сношений её с императором. В течение шести недель послеродового периода Марии-Луизы madame Megravere и королева Испании и Голландии одни были допущены в родильнице. Им подставлены были кресла около её постели. В первый день парадного приема император распорядился унести эти кресла, которые заменились табуретами. В момент рассаживанья присутствовавших madame Megravere удалилась. Императрица хотела ее удержать, но она возразила: «Madame, если бы император желал, чтобы я присутствовала при принятии вами послеродовой молитвы, он распорядился бы поставить для меня кресло». В другой раз, в том же году, на одном семейном собрании Наполеон поднес ей свою руку для целования. Но она с живостью оттолкнула ее, и не она, а он поцеловал руку своей матери. Она говорила ему наедине: «Вы знаете, ваше величество, что на людях я обращаюсь с вами с почтением, потому что я ваша подданная. A в частной жизни я ваша мать, и когда вы говорите: я желаю, – я отвечаю: а я не желаю». Вспоминая, что некогда в Аяччио она повелевала и все ей повиновались, что, когда она воспрещала прикасаться к винным ягодам и винограду в саду, и будущий победитель при Аустерлице преступал её законы, то она имела право его высечь; вспоминая, как потом в Марсели ей достаточно было мигнуть, чтобы красивые её дочери с корзинами в руках отправлялись на рынок, вспоминая все это, она не могла не сказать, что времена, когда люди живут в неизвестности, имеют свою хорошую сторону, а времена славы – свои унижения. Всю свою жизнь она исповедовала культ порядка, а этот культ требует, чтобы дети безусловно повиновались своим родителям. В 1802 году, во время обнародования Конкордата, она сказала первому консулу: «Теперь нет уже более надобности угощать вас пощечинами, чтобы заставлять вас ходить к обедне». – «Нет, – возразил он, – теперь уже моя очередь кормить вас ими». Он, конечно, никогда не дерзал это сделать. Но если бы это случилось, она, как верноподданная, должна была принять такой факт вполне благосклонно, а это-то и претило ей. С бесхитростным умом она соединяла большую простоту сердца и упорную преданность ограниченному циклу как бы прирожденных ей идей. Иметь сына своим повелителем представлялось в глазах её нарушением естественных законов. Подобно цветам и животным, она всегда жила жизнью весьма близкой в природе.
4
Счастье нисколько не смягчило ее, а несчастье никогда не сокрушало ее. Одна за другой прилетели к ней вести о кончине императора, затем двух дочерей и внука её – короля Римского. Помимо бремени её горестей на долю её выпало еще кое-что на этом свете. И ни на минуту не сгибаясь под этим бременем, до восьмидесяти четырех лет прожила она, с высоко поднятым челом.
Ей было семьдесят три года, когда король Жером с женой и детьми прибыли в Рим. Они нашли ее «маленькой и похудевшей, с черными полными жизни глазами, истинным типом корсиканской расы, какие еще встречаются в горах острова в семьях свободных от всякой иностранной помеси. Платье из мериносовой материи и тюрбан того же цвета, фасона empire, составляли её скромный и единственный туалет. Она оплакивала первых своих покойников Элизу и Наполеона». Неоднократно просила она разрешения поехать на остров св. Елены, чтобы жить там с своим сыном, бывшим её повелителем. Когда она узнала, что его более нет на свете, сердце её надрывалось. Но несколько дней спустя один кардинал писал королю Вестфальскому: «Вы должны были заметить, что характер её нисколько не ослабел, я позволю себе даже сказать, что он закалился до такой степени, что при известии о смерти Элизы здоровье её пошатнулось, но при этом страшном событии она подавила в себе горе. Ей не пришлось ложиться в постель, и если исключить сильную грусть, уменьшение аппетита и увеличение слабости, то она здорова». Она сама писала принцессе Полине: «Здоровье мое сносно, в сравнении с тем, что я выстрадала и насколько страдаю теперь». Когда четыре года спустя, она узнала о смерти принцессы, она писала детям экс-короля Жозефа: «Мы потеряли нашу бедную Полину, – вы легко поймете мое горе».
«Мы корсиканцы, – часто повторяла она – узнаем друг друга по революциям». Она была свидетельницей не одной революции в своей юности, и с ранней юности, не гоняясь за приключениями и опасностями, не симпатизируя им, готова была все претерпеть и на все решиться, если того требовала честь. Ей было двадцать лет, когда она подбила мужа принять участие, в компании с Паоли в войне за независимость. И то пешком, то верхом на лошади или же на спине мула, она следовала за ним повсюду, останавливаясь на бивуаках в оврагах, проводя ночи под открытым небом и ни мало не заботясь о жужжавших над ней пулях. Она была тогда беременна избранным ребенком, который, словно сгорая от нетерпения испытать баюканье своей матерью, усиленно шевелился в ней, и казалось, рвался на битву ранее появления своего на свет. Впоследствии порвавши всякие связи с Паоли который хотел сдать остров свой Англии, Бонапарты направились во Францию, где были поставлены вне закона. Небольшого труда стоило синьоре Летиции снова углубиться в горы. Когда же ей пальцем указывали на горевший дом её, она отвечала: «Ну, так что же. Мы выстроим новый, получше того!»
Ничего не удивляло эту корсиканскую крестьянку. Не раз бывала она героиней. Но что всего достойнее было в ней, так это то, что ей и в голову никогда не приходило рисоваться. В Порто Ферраджо, за несколько часов до отъезда с острова Эльбы, Наполеон при свете луны объявил ей, что отправляется с намерением снова отвоевать себе корону.
«Прежде всего, – сказал он ей, – я спрашиваю вашего мнения». – «Ах, позвольте мне, – отвечала она, – постараться забыть, что я ваша мать». Затем после минутного размышления она сказала: «Небо не допустит, чтобы вы умерли от яда или какой-нибудь смертью, вас недостойной. Вы должны умереть со шпагой в руке». То была та же самая женщина, которая говорила, что «падение дело пустое если оно совершается с достоинством, и что падение составляет все, когда кончаешь трусостью». Античный отпечаток характера этой замечательной женщины нигде так не сказывается, как в этих словах. Такие беспощадные великие слова говорились только теми из матерей-героев, с которыми знакомят нас Плутарх и Ливий.
Французское дворянство начало эмигрировать. В это время одна молодая дама пригласила поручика Бонапарта отправиться вместе с ней, обещая ему свою благосклонность. – «Madame, вы очаровательны, – возразил он. Но на свете существует одна женщина, благосклонность которой мне еще милее, – это Франция». M-me дю-Коломбье давала ему более разумные советы: «Не эмигрируйте, monsieur Бонапарт. Все знают, как выезжают из Франции, и однако никто не знает никогда, ни как в нее возвращаются». Наконец, мать его написала ему. Она умоляла его не покидать своей родины, не следовать безумной моде и не переходить через Рейн. «Успокойтесь, signora madre, – ответил он ей, – ваш сын никогда не будет на жалованье у неприятеля».
5
Madame Megravere говорила, что жизнь её окончилась вместе с падением императора. Удалившись в Рим, во дворец Ринуччини, она навсегда отказалась от всего на свете. «Конец визитам к кому бы то ни было; конец театру, который был единственным моим развлечением в минуты меланхолии». И она все-таки не переставала существовать, и когда ее спросили, какой секрет она знает, чтобы так поступать, она ответила: «Я всегда выходила из-за стола с аппетитом, и при всяком несчастии предавала себя на волю Божию». Она легко покорялась всему, что ей казалось решением свыше. Благочестие её было искренним. Однажды она обратилась к одному римскому прелату с вопросом, верит-ли он, что Наполеон в раю. – «Да, madame, я верю этому, – отвечал прелат, – но я не убежден в том».
Однако, несмотря на всю её набожность, главной утешительницей её была природная её философия, местами сказывающаяся в некоторых отрывках её писем. «Не могу снабдить вас хотя бы небольшой дозой моего характера, – писала она королю Жерому 18 поля 1821 года. – В случае дурной вести, в первый момент я огорчаюсь, а в следующий – огорчение мое уже уступает надежде. Поступайте, как я. Если надо, сократите ваш дом, даже уничтожьте его, распустив всех слуг. Только больше чести будет для вас, если вы будете бороться и одолеете несчастие. Я уверена, что у Catherine достаточно высокая душа, чтобы сладить с самой крайней необходимостью… Одна мать может дать подобный совет. Тогда уж вам нечего будет бояться, остается только надеяться на все».