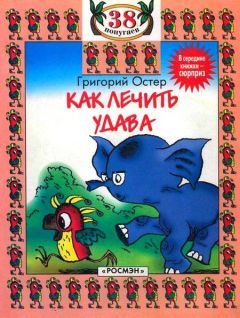Непомнящий. «Нация», по-русски, есть «личность». К сожалению, сейчас это подвержено сомнению, потому что есть много-много-много личностей, у каждой свое мнение, кто как хочет, тот так и считает, кому что нравится, то и делает. Вот в чем беда.
Живов. Вы знаете, я ведь историк языка и… (Ведущий, радостно демонстрируя осведомленность. И занимаетесь, в частности, переломными моментами…) И занимаюсь переломными моментами. Так что, то, что я здесь слышу, мне кое-что напоминает. При Петре Первом говорили то же самое. И он был такой страшный разрушитель русского языка, и страшное количество заимствований хлынуло. И после революции 17-го года то же самое произошло. И там тоже уходили какие-то важные слова, которые передавали истинные душевные переживания, а вместо этого появлялись ужасные наименования типа «товарищ» и «браток», которые вытравливали натуральные человеческие чувства.
Весь этот дискурс, который я от вас тут услышал, знаком до боли. Он очень понятен, вызывает сочувствие, но, скорее, как медицинский факт. Как факт некоторого душевного расстройства, я бы сказал. Потому что нужно видеть, что происходит. У русских периоды катаклизмов связаны с обращением в иное пространство. Вовне, скажем, на Запад. Так было при Петре, так было с интернационалистами, большевиками, и так было в 90-е годы. Происходит разрушение тех норм, которые были престижны до катаклизма, с чем связано и обильное усвоение жаргонных слов, блатного языка. После этого через какое-то время наступает реакция. Эта реакция наступила в России в послепетровскую эпоху, в 30-е годы XVIII века. Она проявилась в 30-е годы в Советском Союзе, со сталинским проектом. Мы видим ее сейчас. Ну, так вот язык и живет. Ничего с ним катастрофического не происходит. Петр Первый портил, портил русский язык, а потом появился Пушкин и написал так хорошо, как никакому допетровскому человеку не снилось.
Непомнящий. Виктор Маркович, Вы забываете, что Петр был один, ему помогали еще сто человек, а сейчас существует такое мощнейшее, немыслимое, неслыханное средство насилия и давления, как средства массовой информации, которые все то, что портит язык, навязывают.
Снова затемнение. В софитах — поэт Кибиров
Кибиров. Боюсь, что я сейчас заслужу тот же самый диагноз, что и Александр Казинцев. С другой же стороны, я отчасти являюсь представителем той самой чудовищной силы, массовых этих коммуникаций и средств информации. Я начну сразу с самого острого вопроса, который тут обсуждался. По поводу уместности, необходимости цензуры. Языковой, в данном случае. Я уверен, что это было бы просто замечательно. Я проголосовал бы двумя руками… (Непомнящий, аплодируя: Никому другому бы не аплодировал, а Вам — да.) …и агитировал бы, чтобы все остальные проголосовали. Если бы можно было найти хотя бы трех порядочных цензоров, которые действительно являлись бы воплощением истины, добра и красоты. (На секунду свет возвращается в студию. Ведущий, показывая на своих собеседников, щедро. Вот, пожалуйста.) Но это по определению невозможно, а надежды на бескорыстных представителей гуманитарной интеллигенции слабые.
И вновь я приближаюсь к тому, чтобы заслужить сомнения в адекватности. Ну, смешно говорить, что ничего не происходят. Происходят катастрофические совершенно изменения. Не случайно несколько раз во время разговора возникал Петр Великий. По изменениям, по их значимости для языка, вполне сравнимые эпохи. И могут ли быть изменения в языке к худшему? Конечно же, могут, как во всяком организме. Могут привести и к смерти. Я в этом уверен, хотя надеюсь, что мы еще очень далеко от таких перспектив.
Затем. Когда я говорю о пагубности некоторых изменений, то ни в коем случае не имею в виду заимствования из иностранных языков. В частности из того самого демонического английского, на котором, оказывается, говорит вся элита в городе Сургуте. Вообще не так плохо обстоит дело в Сургуте, если там элита способна говорить на английском. О’кей. (Смешки в зале; шутку оценили). И даже не о заимствовании из всех возможных жаргонов, от молодежных до блатных. И даже не так сильно пугает меня частичная легализация т. н. абсценнойлексики, попросту говоря, мата. На самом деле все это способствовало дальнейшему украшению русского языка и приращению его возможностей. Беда в другом. В том, что, на мой взгляд, в последние годы эти заимствования не обогащают, не удлиняют синонимические ряды, а просто вытесняют. Вот это тяжело. (Непомнящий. И для мата плохо.) И просто в заключение. (Ведущий. Был трехэтажным, стал одноэтажным…) Если молодой человек, описанный коллегой Казинцевым, помимо эффимистического «паяльника» знает слова «лик, «лицо», «морда», «рожа» и так далее и так далее, то ничего страшного в употреблении этого самого «паяльника» нет. А вот если «паяльник» остался один, то это, действительно, катастрофа. Не только языковая, но и нравственная. Я совсем далек от мысли впрямую связывать социальные, экономические, нравственные проблемы с языком и совсем не уверен, что, если менеджера называть, предположим, радетелем или отцом-командиром, то он как-то немедленно начнет иначе себя вести или к нему иначе станут относиться. Думаю, что это не так. Но существует угроза примитивизации языка, а соответственно, и сознания, а что за этим следует, понятно…
И на последок довольно забавный расскажу случай. Моя дочка года два назад читала Сумарокова вслух — по моей просьбе. И довела меня просто до истерики, когда я услышал «повсеместно голимый, я стражду». Просто для нее естественнее было прочитать «голимый».
Через затемнение — к свету
Ведущий. Я благодарю вас за этот разговор. Надеюсь, что язык и вправду переварит все, так что сознание не будет примитивизироваться, о чем говорил Тимур. Единственное, с чем я не согласен, так это с тем, что свобода — болото. Свобода это не болото. Свобода это ветер. Ветер, конечно, существо опасное…
Непомнящий. Я не говорю «свобода это болото», я говорю: свобода, употребляемая только для себя…
Ведущий (упрямясь). Но все-таки это веяние. Ветер может быть разрушительным, но без него мы задохнемся. И свобода развития языка должна быть оставлена, язык существо самодостаточное и саморегулирующееся. Но главное, — о чем когда-то сказал литературный критик Владимир Новиков, — нужно испытывать от своего языка удовольствие. Это и есть наилучший критерий отсева наносного, лишнего и смутного.
Непомнящий. (мудро, в духе позднего Островского) Где удовольствие, там и муки.
Легко было выносить политические суждения в начале 90-х; казалось, что прошлое рухнуло, будущее само решит свои проблемы, а настоящее требует лишь восстановления справедливости. И позиция в отношении к церковного наследия, изъятого советским государством, была проста: отняли — верните, пожалуйста.
Прошло почти 20 лет; стало ясно, что через минное поле, оставленное отступающей советской властью, так просто не проскочишь. Сплошь и рядом возникают неразрешимые проблемы: куда переводить музей (реставрационные мастерские, библиотеку….), если они размещены в храмовом здании? как поступать, если патриарх просит привезти рублевскую Троицу на три дня в Лавру, откуда икона когда-то переехала в Третьяковку? что делать с батюшками, равнодушными к реставрационным нуждам? с музейщиками, презирающими попов? как восстанавливать монастырь, если он когда-то был единственным хозяином на архипелаге, но теперь здесь и музейное пространство, и лагерные могилы?
Одна из самых болезненных тем, возникших в нулевые годы — судьба Соловков. Архипелаг, по существу, был обжит именно монахами; это изначально была их территория, их христианская республика, почти как греческий Афон. Потом здесь возник Соловецкий лагерь особого назначения; между прочим, именно он изображен на пятисотрублевке: четырехскатные крыши вместо куполов. После коммунистического самораспада монастырь начал восстанавливаться — и со всей возможной определенностью встал вопрос, а кто будет управлять архипелагом? Какие власти, по каким правилам? Монастырские? Музейные? Муниципальные? Позиция юристов Московской патриархии однозначна: наше. Позиция соловецких музейщиков уклончива: как государство решит.
Общественная палата обратилась летом 2008 года к премьеру Путину с призывом объявить Соловки особой (в хорошем смысле слова) зоной, сделать невозможной бурную тусовочную жизнь; многие считали в этом призыве подтекст: монастырь должен быть хозяином на этой земле, а все остальные — в той мере, в какой это не помешает монастырским.