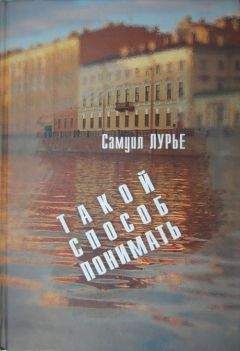Это помню, а сюжета пьесы не помню. Действие происходило вроде бы в колониальной стране. Там был какой-то очень отвратительный отрицательный герой — акула капитализма. И он хотел что-то оттягать у положительных героев, какую-то необычайно ценную недвижимость — допустим, участок с месторождением. И вот, когда он добился своего и зло без пяти минут победило, положительные герои вышли в радиоэфир и провозгласили этот, допустим, участок — одним из Северо-Американских Соединенных Штатов — новым, сорок девятым (а в момент сочинения пьесы их было, видимо, сорок восемь). САСШ почему-то пошли навстречу просьбам положительных, и акула вынуждена была отвалить несолоно хлебавши. Вот.
Перенести действие в устье Невы тоже догадался впервые не я, но ВКП(б) с НКВД. Они разыграли его под заглавием «Ленинградское дело» — и множество людей в 49-м (не штате, а году), и в 50-м, и в 51-м признавались на допросах под пытками, что лелеяли мечту об отделении города трех революций от СССР.
Вероятно, Сталин тоже читал эту пьесу Кольцова (не обязательно на стульчаке) и решил приспособить сюжет к решению текущих задач.
То есть выступил, как всегда: как плагиатор-практик.
А я — как плагиатор-утопист.
Бурое золото
Предположим, нам с вами (условным нам с условными вами) эта условно наша затея почему-либо удалась бы. Тот же Мадагаскар добился бы через ООН гарантий нашей безопасности. К нам примкнули бы обрадованные трудящиеся массы Каменного острова и Купчина, после чего и весь город, от Смольного до спальных до окраин, стал бы условно наш. А Кронштадт и Ломоносов соблюдали бы нейтралитет. Повторяю: предположим.
Но, спрашивается, какую предложили бы мы новоявленной республике (или великому герцогству, все равно) экономическую модель? Много ли в Петербурге производится вещей, которые могли бы пригодиться его населению? А производство на экспорт не наладить без собственных энергоресурсов, без источников сырья. Они имеются — кой-какие — в Ленобласти. Но аншлюса не допустят — опасаясь нашего усиления — завистливые Новгород и Псков; и вообще — огромный риск увязнуть в партизанской войне.
Между тем население не может питаться одним воздухом свободы. Конечно, разведем огороды на крышах, пасеки на балконах, переоборудуем гаражи под хлева, разместим в котельных теплицы, на скорую руку возведем голубятни (тут вам и белковая пища, и беспроводная связь), — но проблемы останутся.
Правда, мы (и, кажется, как раз на Васильевском) делаем подводные лодки. Они могли бы образовать флибустьерский флот (секретная база — в укромной мадагаскарской бухте) и, бороздя Атлантический и Тихий, снабжать СПб. иностранными товарами.
Но это, как говорится, сопряжено и вообще чревато. Более надежной лично мне представляется другая, традиционная бюджетная статья. Мы ведь, как известно, можем спускать в Финский залив ежедневно до трех тысяч тонн сами знаете чего. А можем, щадя Скандинавию и Прибалтику, спускать только тысячу тонн или даже меньше. Если нам будут за это платить конвертируемой валютой. (Будут, как миленькие, куда денутся.) Однако сомневаюсь, чтобы даже и таким способом нам удалось обеспечить прожиточный минимум выше теперешнего. Это дорога в застой. И даже в отстой.
Немного генеалогии
Есть и другие контраргументы. Согласитесь: первое условие для обретения и поддержания независимости — наличие народа. Так вот — являются ли обитатели Петербурга отдельно взятым (за руку) народом? Чувствуют ли себя таковым? Связывает ли их общность происхождения (как, скажем, нынешний народ Крыма произошел, после выселения коренных жителей, от военных пенсионеров и медперсонала здравниц)? Или, может быть, общность своеобразной культуры?
Полагаю, ответ очевиден. (Про культуру — промолчим, не фиг лицемерить.) Кроме штампа прописки, нас — или, по крайней мере, очень многих из нас — объединяет (и отъединяет от иногородних) разве что опыт коммуналок (думаю, ни в каком другом населенном пункте мира этот опыт не изуродовал столько душ). Ну и еще одно обстоятельство, как бы мистическое: помимо нашей воли, нечувствительно, неосознанно — скорей всего, через старую архитектуру — нам передается ужас и боль наших предместников, принявших насильственную смерть. Ведь практически в каждом старинном здании кого-нибудь убили, из каждого дома кого-нибудь увели, увезли на казнь.
Почти никто про это, конечно же, не помнит, как и про заклятье царицы Авдотьи. Мы — добросовестные обитатели выморочного жилья. Окровавленных призраков не замечаем. Но равнодушная, покорная привычка к плохим, как погода, временам — в петербургском подсознании живет.
Зато петербургское самосознание отсутствует. Откуда ему взяться? Кто воображает себя потомком первобытного человека, чью стоянку раскопали (в Лисьем, что ли, Носу) археологи незадолго перед ВОВ? Кто заявит горделиво: моя, знаете ли, прабабушка познакомилась с моим прадедушкой, играя в песочек у подножья Медного всадника? То есть заявит-то кто угодно. В наши дни в троллейбус не войдешь, не подвинув какую-нибудь столбовую дворянку. И она непременно прошипит: понаехали тут! Действительно. Петр Великий, например, был москвич. С ним понаехали всякие-разные отовсюду. Потомство этих первых горожан Зиновьев, Киров и Жданов повывезли. Романов, наоборот, позавозил ежегодно ровно по сто тысяч т. н. лимитчиков. И т. д., и т. п.
Короче, с чего бы это наш согражданин мыслил, чувствовал и вел себя не как все бывшие советские? Декорация, что ли, обязывает? И кстати, от кого ему унаследовать этот пресловутый имперский синдром?
Немного палеонтологии
Хотя любой генетик вам скажет: это признак не наследуемый, а благоприобретаемый. Путем обучения в специальных заведениях. И такие заведения есть в самых разных местах, и поступают в них похожие друг на дружку субъекты, а выходят — одинаковые. Все вместе они составляют как бы серое вещество — как бы субстанцию мозга империи. Потому что мозг любой империи, а также ее честь и заодно совесть — политическая полиция.
Но дело в том, что если нормальное государство подобно млекопитающему (травоядному, всеядному, хищному), то у империи совсем другая, особенная стать: она — звероящер. С массой тела такой огромной, что один мозг не справляется. Хотя образ жизни звероящера довольно прост: кто не спрятался — он не виноват.
Однако по ходу эволюции в бедняге развивается второй, периферийный мозг (в царской России, например, — литература) и начинает первому дерзить — вроде как кажет кукиш. Нет, — телепатирует, — не в тебе помещается честь-совесть, а, напротив того, во мне. Да и ум, если на то пошло.
Руководящий орган, естественно, наливается злобой — вот и весь синдром.
Болезненный, разумеется, но и с ним, ничего, живут. Пока через тысячу лет не приходит Кондратий: салют, мальчиши! Звероящеры падают с грохотом, как памятники вождям.
А наше дело — сторона. Петербург стоит себе на сваях, между которыми — косточки. Мелко-мелко так дрожит, убогий чухонец судьбы. И снится ему покой. И финиковые пальмы Мадагаскара.
2007
ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК СЭРА ТОМАСА
Необитаемый остров — самое подходящее место, чтобы перечитать роман, сочиненный в тюрьме. В пятый раз перечитаю, в шестой — пока не расплету, как сеть из конского волоса, этот многолюдный, многобашенный сюжет, эту необозримую сказку, называемую «Смерть Артура», — нелепую, но с восхитительными разговорами.
Сэр Томас Мэлори, заключенный рыцарь, придумывал диалоги, как никто. Темница, ясное дело, располагает к раздвоению голоса, но литературный дар сэра Томаса, вдруг раскрывшийся в плачевных обстоятельствах на шестом десятке лет, был, по-видимому, не что иное, как образ мыслей. Сэр Томас оказался мастером прямой речи, потому что чувствовал обмен словами как взаимодействие воль, из которого и состоит материя жизни.
Фраза требует вздоха, замаха и падает, как удар.
Балин убил на поединке ирландского рыцаря; откуда ни возьмись — какая-то девица на прекрасной лошади: падает на труп ирландца и, рыдая, пронзает себя мечом. Балин, озадаченный и расстроенный, углубляется в лес, вдруг видит: навстречу ему скачет рыцарь — судя по доспехам, его брат Балан, — а Балин как раз и странствует в поисках этого брата, — они целуются, плачут от радости, наспех обсуждают создавшееся положение и намечают дальнейший маршрут, уже совместный, — трогаются в путь, — тут на поляну въезжает галопом конный карлик и, завидев мертвые тела, начинает стенать и плакать и от горя рвать волосы на голове. Чепуха, сами видите, несусветная, уличный театр кукол.
Но вот карлик обращается к Балану и Балину:
— Который из двух рыцарей совершил это?
В другой книге, скорей всего, ему сказали бы: а тебе что за дело?