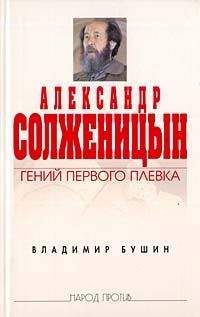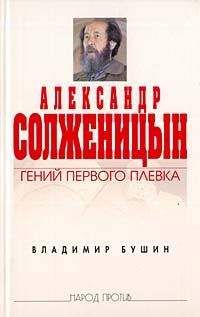Цензура целиком выбросила главы «Маша» и «Девичья», в других главах были сделаны большие купюры.
Но вот закончена и представлена в «Современник» последняя часть трилогии — «Юность». По поводу ее Толстой был вынужден объясняться с членом петербургского духовно-цензурного комитета архимандритом Иоанном Соколовым. 18 декабря 1856 года он записывает в дневнике: «Поехал к отцу Иоанну, стерва». Вот бы по дороге к отцу Иоанну повстречать ему Солженицына с той укоризненной фразочкой на устах: «Не нужна свобода тому, у кого она уже есть»! Стервой-то молодой граф едва ли бы тут ограничился, как бы не прибег к рукоприкладству, как бы дело не кончилось для Александра Исаевича телесными повреждениями, членовредительством.
Ничего неожиданного в таком исходе не было бы, потому что чувства Толстого, вызванные цензурным варварством, клокотали в нем с необычайной силой. Еще бы! Ведь это были его первые шаги на литературном пути, первые и горячо любимые произведения.
И в ответ на цензурные издевательства великий писатель только и мог, что отвести душу в письме или в дневнике. У Александра-то Исаевича возможности куда вольготней. Вот посчитал он, что на Западе плохо перевели «Один день Ивана Денисовича», тоже первенца, — и, ах, как же он взвился! Всех, кого почел виноватым, — поносил, проклинал, предавал анафеме. Да не в дневнике, не в частном письме, а в изданной большим тиражом книге, в том самом «Теленке». Переводчикам Бургу и Файферу бросает в лицо: проходимцы!
На переводчика Р. Паркера топает ногами: прихлебатель! халтурщик! Издателю Фляйснеру лепит в глаза: лгун! На всех вместе визжит: «Шакалы, испоганившие мне „Ивана Денисовича“!» Не берусь судить, кто испоганил и что испоганил, но как не удивиться дикому взрыву негодования по поводу зарубежных изданий! Ведь на родном-то языке книга вышла в таком виде, который вполне удовлетворял автора, и несколькими изданиями, в том числе — в «Роман-газете» тиражом почти в три миллиона экземпляров. А тираж «Современника» с первыми повестями Толстого не достигал и пяти тысяч. Какой содержательный материалец для размышления о свободе: миллионы экземпляров книги, изданной так, что автор не может на нее нарадоваться, и четыре-пять тысяч экземпляров книги, опубликованной столь варварски, что автор стыдится ее! И нельзя не добавить, что первая книга через несколько лет была почти совсем забыта, а вторую по прошествии и ста лет и еще четверти века все читают и перечитывают новые поколения.
Слова Некрасова о цензурной «судьбе» Толстого оказались пророческими: цензура преследовала его всю жизнь. Но этим дело не ограничивалось. В 1856 году в связи с очередными трудностями, вставшими на пути «Севастопольских рассказов», 28-летний писатель, имея на то веские основания, делает такую запись в дневнике: «Я, кажется, сильно на примете у синих (т.е. у жандармов. — В.Б.). За свои статьи». И он не ошибся. Действительно, и за ним, и за его произведениями была учреждена слежка.
Когда в 1861 году было объявлено об отмене крепостного права, Толстой принял должность мирового посредника в своем родном Крапивенском уезде и старался отстаивать интересы крестьян при проведении реформы, мешал некоторым помещикам обманывать их при выделении земельных наделов. Такая деятельность писателя имела результатом многочисленные доносы на него тульскому губернатору и министру внутренних дел.
Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, а в 1862 году стал издавать педагогический журнал. Властям все это показалось крайне подозрительным, и летом того же года в Ясную («открытый клуб мысли»!) внезапно явились жандармы с одной-единственной, но весьма оригинальной и энергической мыслью на челе: произвести в «клубе» тщательный обыск. Оппонентов у них не оказалось: хозяин был в отъезде. Искали тайную типографию и возмутительные сочинения. Толстой был так возмущен беспардонным вторжением синих мыслителей, что хотел было даже уехать из России. И опять невольно приходит на ум: попадись бы тогда ему под руку Солженицын со своей декламацией об «открытом клубе» да о его, Толстого, свободе, — и, глядишь, одним нобелевским лауреатом в XX веке было бы меньше. А пока и школу и журнал пришлось закрыть.
Между тем слежка за Толстым и притеснение его продолжаются. В 80-е годы дело доходит до того, что большинство произведений уже всемирно знаменитого писателя или печатаются с огромными бесцеремонными выбросками, или вовсе не печатаются. В эту пору такие достославные издания, как «Московские ведомости», «Московские церковные ведомости», и некоторые другие прямо призывали к расправе над Толстым, к запрету и уничтожению его произведений. Ну, словом, твердили то самое, солженицынское: «Не пора ли остановить?!»
В марте 1899 года в «Ниве» начал печататься роман «Воскресение». Жажда властей «остановить» и «не пущать» была огромна. Роман, однако же, появился и в журнале, и отдельной книгой. Но в каком виде! Из 129 глав лишь 25 не были искорежены цензурой. Дочь писателя Мария Львовна в письме к Н.С. Толстому, написанном по поручению отца, просила не судить его строго за «Воскресение»: «Оно так изуродовано цензурой, что некоторые места совсем потеряли смысл».
Со многими цензурными искажениями роман так и пошел гулять по свету: в 1899 году он издается на английском, немецком, французском, сербско-хорватском, словацком, в 1900-м — на шведском, финском, болгарском, венгерском, голландском, итальянском, норвежском и польском, немного позже — на испанском, чешском, японском, арабском, турецком и других языках. Вот так-то обстоит дело со свободой Льва Толстого как писателя. Но и это еще не все.
Размышления властей предержащих, как светских, так и духовных, о желательности расправы над Толстым вовсе не были пустыми мечтаниями. Тут выдвигались вполне конкретные и реальные предложения. Одни говорили, что хорошо бы упрятать старого смутьяна в Сибирь. Другие, опасаясь, что из Сибири, чего доброго, почитатели устроят побег, кивали на Петропавловскую крепость: надежнее — и стены повыше, и догляд попроще. Третьи, соглашаясь, что Сибирь слишком далеко, уследить трудно, и считая одновременно, что Петропавловка, наоборот, уж слишком близко, что опасно держать в столице такого возмутителя, предлагали компромиссное решение: заточить старца в один из суздальских монастырей — и не слишком далеко, и не слишком близко. А какие там уютные да надежные келийки есть! Но тут подают голос четвертые, они решительно заявляют, что все проекты чрезмерно прямолинейны и грубы: нельзя же не считаться с мировой известностью Толстого, с его великим авторитетом. Они выдвигают план гораздо более надежный и тонкий: объявить бунтаря сумасшедшим и упрятать в желтый дом. Это нетрудно будет обосновать: писатель стар, всю жизнь много работал, вот и переутомился, вот и не выдержал ослабший организм, вот и свихнулся. Все это можно преподнести даже сочувственно: как трагедию великого ума, как преждевременный закат гения.
Неплохо, неплохо, говорят пятые. Но есть вариантец и получше, и еще понадежнее. Старик, как известно, любит охоту и дальние прогулки то на коне, то пешком, и чаще всего в одиночестве. Так чего же проще: изучить его маршрутики, а потом спрятать надежного человечка за придорожным кустиком с ружьишком, и — бах! бах! — несчастный случай на охоте. Тут уж и мировая общественность ничего сказать не сможет. А коли и скажет, — увы, поздно.
Приверженцы каждого из этих планов были людьми убежденными и энергичными. Каждый настаивал на своем. Вполне возможно, что только из-за обилия прожектов и взаимной неуступчивости их авторов ни один прожект в конце концов, слава богу, так и не был осуществлен. Впрочем, еще летом 1880 года, как раз в дни пушкинских торжеств, был пущен слух о сумасшествии Толстого. Но, кажется, больше всех не терпелось с выполнением своего замысла сторонникам последнего плана. Не об этом ли свидетельствует запись в дневнике, сделанная Толстым 1 декабря 1897 года: «Получил анонимное письмо с угрозой убийства, если к 1898 году не исправлюсь. Дается срок только до 1898 года. И жутко и хорошо»? Это был не единственный случай. Не прошло и месяца, например, а 29 декабря 1897 года Толстой опять записывает: «Получены угрожающие убийством письма…» Вот какие ученые трактаты приходили по почте в Открытый Клуб Мысли.
Могут, пожалуй, сказать: при серьезном намерении убить кто же извещает об этом заранее? Ну, во-первых, в иных случаях извещают. А во-вторых, убить человека, да еще такого известного, дело, конечно, хлопотное и опасное, — так почему же не попробовать прежде добиться своего угрозой?
Не решась осуществить ни один из пяти своих планов, мракобесы отважились на шестой: отлучили Толстого от церкви. Закоперщиком этого достославного деяния был обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, тот самый, что, по слову Блока,
Над Россией
Простер совиные крыла.
Есть основания полагать, что Александр Исаевич, сам не исключавший мысли о своей полезности Лаврентию Павловичу, недурно чувствовал бы себя под совиным крылышком Константина Петровича. А уж в данном-то вопросе — об отлучении — наверняка был бы с ним заодно. Как же! Ведь одной из главных причин отлучения Толстого была критика им церкви, а Солженицын не только с сочувствием, но с восторгом относится к критике этой критики. Его знакомцы Борис Гаммеров и Георгий Ингал высмеивали Толстого за его критику — и Солженицын восхищается этими людьми, их отношением к великому писателю, хотя за версту видно, что у них весьма смутное представление и о религии, и о Толстом.