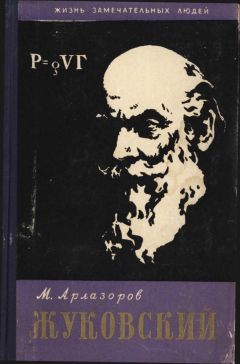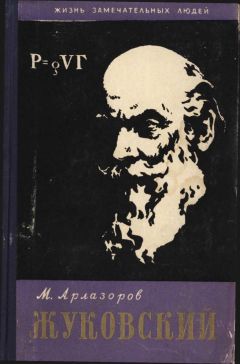Но и отношения Англии с Россией, и так никогда не бывшие сердечными, портились. Англия открыто поддерживала Японию, да и вообще традиционно «пакостила», порой скрыто, а чаще — открыто. 30 января 1902 года был заключен антирусский англо-японский союз и, опираясь на него, Япония развязала русско-японскую войну 1904–1905 годов.
Скажем также, к слову, что в апреле 1904 года синдикат английских банков совместно с американо-еврейским банкирским домом «Кун, Леб и компания» и банкиром Яковом Шиффом предоставили Японии кредит в 50 миллионов долларов. По заслуживающему доверия (в данном случае) свидетельству Витте, «тогда государь считал англичан нашими заклятыми врагами».
Правда, и в «союзной» Франции банкир барон Жак Гинзбург в самый разгар маньчжурской войны, по воспоминаниям графа Игнатьева, сумел провести заем для Японии. И вот на фоне всего этого началось взаимное встречное движение Англии к Франции и наоборот.
Всего семь лет назад между этими двумя колониальными супердержавами не то что союза — просто нормальных отношений не было и в помине. На языке у всего мира было слово «Фашода», а англичане и французы были на грани войны. Войны классически колониальной, которая велась бы не под стенами Лондона и Парижа, а за тысячи километров от них, но все же могла возникнуть. Или все же не могла?
Дело было так. В сентябре 1898 года у селения Фашода на Белом Ниле, в верховьях великой реки, столкнулись два военных соединения.
Французский колониальный отряд капитана Маршана пришёл сюда из французского Конго еще в июле, водрузил над развалинами старой крепости трехцветный флаг и теперь стоял на пути у английской экспедиции генерала Китченера, шедшей вверх по Нилу.
Встретились генерал и капитан не на светском приеме, так что субординация полетела к черту — капитан решительно от казался уступить старшему по званию, и мутные нильские воды начали вскипать от накала страстей.
Генерал командовал корпусом в 20 тысяч человек, капитан — отрядом в сотню бойцов, но суть была не в местном соотношении сил в конкретном африканском захолустье. Фашодский кризис нарастал не под стенами заброшенной крепостенки в Восточном Судане, а в европейских столицах.
Это была серьёзная проба складывающегося глобального колониального «расклада», но — политическая, когда потоком лились чернила газетных писак, а не кровь солдат, и в бой вводили не передовые части, а передовые статьи. В ходе Фашодского конфликта нащупывались связи, оценивались шансы будущих коалиций. И так как холопы еще не дрались, чубы трещали пока что у панов.
Франция оказалась вдруг в таком раздоре с Англией, что, как писал академик Тарле, даже в ультра-националистической французской прессе впервые за долгие-долгие годы стали за даваться вопросом: кого скорее следует считать вечным, на следственным врагом Франции — Германию или Англию?
Дошло до того, что начинали составляться проекты при влечения Германии к войне с Англией на стороне Франции и… России. Но Германия в тот момент могла больше получить от полюбовного соглашения с Англией на колониальной ниве, и Франции пришлось уступить.
Генерал отдавил-таки капитану мозоли — даром что Маршан шел к Фашоде через джунгли и болота Центральной Африки целых два года.
Собственно, военная стычка Франции с Англией могла укрепить лишь Германию, что отнюдь не входило в расчеты стратегов будущей мировой войны. Поэтому Англии и Франции вместо взаимного мордобоя пришлось переходить к взаимному, хотя и сомнительному согласию.
Забавно, но даже историки-марксисты всерьёз называли одним из факторов намечавшейся «дружбы» бывших фашодских недругов личную дипломатию английского короля Эдуарда VII. Он, мол, был сторонником англо-французского и англо-русского (!) сближения, зато неприязненно относился и к Вильгельму, и к Германии.
Об Эдуарде историки не забыли, а то, что по обе стороны Ла-Манша политику определяли лондонские и парижские Ротшильды, почему-то из виду упустили. Однако главным был как раз тот факт, что союзу банкиров остро понадобился англо-французский союз.
Франция хотя и хорохорилась, но дряхлела. Французская экономика теряла динамичность, Франция — достойную перспективу. А ведь, напомню, без Франции как единственной реально антигерманской континентальной великой державы не могла начаться будущая большая война.
Францию нужно было надежно прибирать к рукам путем подконтрольного союза. Английский король был здесь лишь коронованным зиц-председателем — не более того. Да особенно трудиться ему и не пришлось — Франция охотно шла на попятный в прошлых спорах, и 8 апреля 1904 года было под писано англо-французское соглашение, формально касавшееся раздела сфер влияния в Африке (и еще кое-где по мелочам), а фактически было закладной доской в будущем здании антигерманского глобального союза. Соглашение получило в печати название «сердечного согласия», по-французски «Entente cordiale». Отсюда и пошла Антанта.
Но России такое «согласие» выходило боком. Все более привязанная к Франции займами и политикой финансового Петербурга, Россия хмуро смотрела на перспективы оказаться привязанной еще и к Англии. Россия терпела поражение в войне с Японией, Франция ей не помогала, а бездействовала, да еще руками Жака Гинзбурга помогала Японии. Англия была открыто враждебна.
Друзья проверяются в беде, и даже в такой локальной беде, как дальневосточный конфуз, поведение Европы волей-неволей заставляло задумываться даже ленивого на мысль монарха Ники (Николая II. — С.К.), тем более что кайзер Вильгельм настойчиво его к этому подталкивал.
* * *
Итак, мировому наднациональному капиталу, с одной стороны, нужно было в зародыше подавить возможность теперь уже германо-российского согласия, а с другой — окончательно пристегнуть Россию к «согласию» собственному.
И метод для этого выбрали настолько же умелый, насколько и рискованный. Хотя, впрочем, при точном учете психологии императоров Вильгельма и Николая, а также в свете того, что внешнее недоброе влияние на русскую политику было мощным и глубоким, риск был не очень уж и велик и даже во все исключался. Пожалуй, избранный метод можно охарактеризовать как «контрминный». Что делает умный и умелый солдат, если противник ведет под него подземную мину? Ну, конечно же, начинает вести свою контрмину для того, чтобы упреждающе взорвать чужую мину и полностью расстроить вражеские расчёты.
Такой контрминой финансового Запада и стал для надежд Вильгельма II германский (впрочем, германский лишь внешне) план нового европейского политического расклада.
Тут нам, читатель, надо без спешки порассуждать, потому что документов о данном факте истории никто не оставил, да и не мог. Такие замыслы бумаге не доверяют. Но вот что говорит нам логика…
Германии был нужен союз с Россией, который стал бы неизбежно и союзом против Франции как континентального врага рейха, и против Англии, как его же глобального врага.
В таком союзе Россия, обретая стабильность на западной границе, могла бы наилучшим образом использовать все выгоды взаимного товарообмена с немцами. А это уже немало, если учесть, что для России единственно разумной внешней политикой была бы та, которая обеспечивала бы мир и ускоренное освоение внутренних богатств.
Однако Россия была связана соглашениями с Францией и так просто разорвать их не могла — полученные и все еще не оплаченные займы держали царизм крепко. Вильгельм это понимал, но слишком уж полагался не только на себя и на здравый смысл Николая II, но и на своих советников.
В конце октября 1904 года он пишет Николаю II о «комбинации трех наиболее сильных континентальных держав». Подразумевались, естественно, Германия, Россия и Франция, но Францию кайзер упомянул, что называется, для проформы. Он вряд ли сомневался, что если бы удалось подвигнуть Николая на общий союз, то это привело бы к разрыву России с только что выстроенным «сердечным согласием».
Подход здесь был простой: не примкнет Франция — беда невелика. А даже если и примкнет — тоже горе невеликое: играть ей в Европе все равно придется вторую скрипку. Собственно, говоря по чести, ни на что иное французы и не могли рассчитывать, вопрос был лишь в том, кто в одном из двух возможных тройственных ансамблей с участием французов и русских будет примой — Англия или Германия?
Союз с Альбионом означал для Франции войну с немца ми, союз с Германией и Россией — тоже войну, но явно более приемлемую — вне Европы, на колониальных фронтах. Так что смысл в затее Вильгельма существовал. А особенно разум ной она выглядела в своем стремлении к прочному миру с Россией.
Одного кайзер не учёл — интернациональной разветвленности, говоря современным языком, — сети «агентов влияния» и согласованности их действий, в том числе и в его Фатерлянде. Вот почему в русских делах он охотно начал действовать по плану… Гольштейна и при участии Гольштейна. Да, да, читатель, убежденный русофоб, барон Фриц фон Гольштейн вдруг проникся мыслью об общности судеб двух монархий.