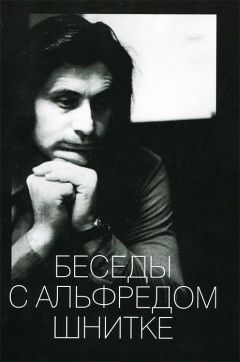Прошлой весной я в своей родной деревне в восьмистах километрах к северу от Москвы сажал картошку вместе с одноклассницей.
Она уже бабушка. Третий или четвертый и, кажется, последний муж. Пес — овчарка. Вот таким семейством, оставшимся от сильного крестьянского рода местного нашего мельника, она переехала на жительство из райцентра обратно под крышу дедовского дома, поставленного у реки на валунах в начале века.
Последним ее "местом работы" в райцентре был пятачок у фонарного столба, где она торговала семечками. Покупала у проводников сырые, жарила и продавала. Стояла летом и зимой, как привязанная к этому столбу, называла его "позорным". Выживала она и там, в городке, неплохо. Но "позора" терпеть больше не смогла. Купила трех кур и поросенка. Уехала в деревню.
Нынче я не узнал ее. Выходит из дому на крыльцо — то ли мать ее — отчаянная медсестра времен Великой Отечественной, то ли бабка — строгая набожная крестьянка доколхозной закваски.
За несколько месяцев Надька набрала родовитости и благородства! Зажегся еще один русский огонек.
А за рекой хозяйствует фермер Красов. Кулак, хват, бахвал.
Ходит в обносках, в рвани. Живет в закутке, выгороженном досками из большущего недостроенного дома-дворца. В двух десятитонных контейнерах прячет от налоговой инспекции японский завод по переработке молока, сплошь напичканный электроникой. Тракторов, комбайнов — полный двор. А скотины — только для себя. Земли запущены под целину. С чего кормится — неизвестно. Но чувствуется, что капиталец имеется у него где-то в банке. Сын на иномарке гоняет на танцы в "дом культуры".
— Ничего не боюсь! Жена возникает — хоть завтра уйду. В одних штанах! И через три года у меня будет то же самое! Как три пальца...
Глаза у него красные от недосыпания и ломовой работы. Весь он напоен дикой, убойной силой.
— Ну кто ты там в своей Москве, Сашка?! А я здесь — король!
Все на грани цыганщины, поножовщины даже — и дурное богатство, натащенное на хутор Бог знает какими путями, и пустующие поля, и надрыв этот в голосе. На грани, но не за ней.
Невозможно причислить его к тем, кто устраивает свистопляску на русском жизненном пространстве, прежде всего по причине красоты исполнения им своей работы.
Вот он накидывает на лицо сварочную маску. И у свежего, прохладного электрода обстукивает край обмазки. Точно улавливает момент зажжения сварочной дуги — не залип электрод. Сразу ведет ровный шов, будто масло режет. Какую-то емкость сооружает. Кажется, для хранения бензина — собственный терминал, пока нефть дешевеет — закупит, зальет, потом, наверно, торговать будет. Или на черный день — для себя.
Все на грани непотребного и традиционного.
Невозможно его заклеймить, пока смотришь на это удивительно ровное плавление металла под его рукой. Тот, кто так хладнокровно владеет тысячеградусным пеклом, не может не быть человеком основательным.
Куда же без музыки в разговоре о цыганщине. Высококлассная манера ведения сварочных работ напомнила мне — крайне странная ассоциация! — фортепьянную игру Михаила Плетнева, коренного русского человека, вот так же с легкой небрежностью исполняющего искрометного Моцарта. Правой доигрывает соло на клавишах, а левой уже дает отмашку для струнных.
Невиданный аристократизм выходца из глухих северных мест за дирижерским пультом Российского Национального оркестра сменился недавно бойкостью Спивакова.
Тенденция отнюдь не в сторону оседлого образа жизни.
ПОГРОМНЫМ ТЕРМИНОМ ЯВЛЯЛОСЬ ЭТО СЛОВЕЧКО — цыганщина, — в 40-е, 50-е годы входило в арсенал идеологического оружия.
Сочинил восемнадцатилетний Юрий Липатов в конце Великой Отечественной войны простенькую песенку "Сиреневый туман". А ее исключили даже из репертуара ресторанов тех лет. Цыганщина.
Композитор умер. А песенка — жива.
В эти предпраздничные, предпобедные дни почему-то до боли ясно вижу я, как лакированные полуботинки давят на медные педали. Над клавишами летают агаты запонок. Будто хорошо смазанный офицерский пистолет, блестят исчерна-сизые волосы, набриолиненные, просеченные пробором. Лицо, припудренное, белеющее в неярких клубных софитах, обращено к залу, к деревенским парням с доисторическими лицами, с руками, вытянутыми ломовой работой, — к их одинаковым новеньким гимнастеркам.
Он пел и играл как бы отдельно — так резко была повернута к плечу голова и так независимо двигались руки над клавиатурой. Скользил голосом по первым рядам, пытался продавить дурную акустику до упора.
— Клавочку! Клавочку! — потребовали из зала.
Тем летом его "Клавочка" в черных картонных кульках громкоговорителей передавалась так же часто, как "Катюша".
Он спел. Из зала пошли записки.
В одной из них он прочитал что-то такое, отчего встрепенулся, глянул в партер и сразу попал на серые распахнутые глаза Нины Томской, дочки хромого станционного телеграфиста, изувеченного у своего нетленного аппарата еще в гражданскую.
В полутьме, в дымке узкого зала глаза ее в третьем ряду светились неясным перламутром. Он пел в эти глаза с такой силой на "ми", что в темени звенело. Ни разу еще не удавалось высекать ему такого тембра из своего горла. Неплохой инструмент подтягивал в септаккордах хоралом. Он чувствовал, как девушка приемлет его, отвечает согласием на его "разрешите познакомиться".
За пять песенных минут промелькнули и первые их прогулки, и первые пожатия рук, и первый поцелуй. Концерт шел в земном, мирном измерении, а роман развивался в сжатом, военном.
Потом они всю ночь бродили по городку — от станции до пристани, от пароходных гудков до паровозных.
На нем была рубашка в полоску, шелковый галстук с золотым шитьем — отцовский, дореволюционный, буржуйский. А на голове — слегка выгоревшая, но еще крепкая черная шляпа "шлютер".
А на Нине — вуалька до бровей и сильно подпоясанное фиолетовое крепдешиновое платье.
В тот час, когда стали кричать петухи, она подвела его к будке обходчика, с заколоченными крест-на-крест окнами. Достала дверной ключ, спрятанный в куче ржавых рельсовых костылей у порога. И они скрылись в крохотном домике.
Переход к утру обозначился не светом, нет, — вдруг побелела осока у насыпи. Рельсы засверкали. Брызнуло на крышу с телеграфного провода, тронутого какой-то птицей.
Первым, по пояс голым, толкнув ногой дверь, выскочил из домишка он. На ходу вдевал руки в рубашку.
Она, семеня по шпалам, торопилась вдогонку с его шляпой, прижатой к груди будто в знак траура. Смеясь, он представлял в лицах своих командиров, изображал сцену расстрела за дизертирство...
Весна — всегда весна, как молодость и вечность. Хоть сорок третий год, хоть семьдесят второй... Затейливый вокзал. Предутренняя млечность. В теплушках, в тупике — театрик фронтовой.
Горячий паровоз пережидает встречный. Струится из трубы избыточный парок. А машинист дымит цигаркою, конечно. А кочегар у топки дремлет впрок.
Над рельсами туман — без эха, без ответа. И мокрая сирень нависла на перрон. Неповторимый миг весеннего рассвета... На ней платочка газ. В широкой шляпе — он.
Ему семнадцать лет. Он — музыкант от Бога. Вокзальный ресторан — его концертный зал. Он танго и романс, модерн или барокко на стареньком фоно легко изображал.
Последний из мужчин в ряду аристократов, он в музыке таил дворянское родство. С листа в один присест одолевал сонаты. В театре — за оркестр. Тапер — в немом кино.
Теперь он позабыт. О нем никто не знает. Но песенка его поется иногда: "Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда"...
Она блюла в себе возвышенную моду. Глухое платье днем, вуаль — по вечерам. Простецкий комсомол не вытравил породу. Не устрашили и попреки классных дам...
В войне заключено исконное начало России и судьбы, сословий и имен. В пожарищах война для них любовь сковала, освободила дух, пустила на перрон.
Вдруг свистнул паровоз, ударил в небо дымом. Театрик фронтовой пролязгал в буферах. Он целовал ее. Она звала любимым. И розовел туман в предутренних лучах.
Из тамбура махал широкой шляпой черной. Потом зашел в вагон, за пианино сел. Под стук колес повел мотив нерукотворный, обозначавший путь и юности предел.
"Ты смотришь на меня, ты руку пожимаешь. Когда увижу вновь? Быть может, через год... А может быть, меня совсем ты покидаешь? Еще один звонок и поезд отойдет.