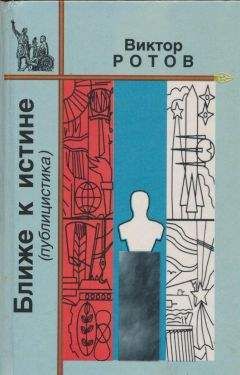зы! Из 22 лет — 10 работа в качестве главного редактора «Крокодила». Феноменальная работоспособность! При этом надо учесть еще, что он не может заставлять. Если он видит, что сотрудник отлынивает, он перекладывает груз на свои плечи. Делал он работу легко, как бы играючи. Без видимого напряжения. Споро и ловко продвигая беспрерывную цепь забот вперед по конвейеру. И не бездумно, не механически, а успевая оплодотворять искорками творческой мысли. Творчество было его состоянием. Он пребывал в этом состоянии всегда: за редакторским столом, за письменным дома, в кино, на прогулке, на курорте. Людмила Максимовна рассказывает: день — два по приезде на курорт он, вроде, отдыхает. А потом начинает тяготиться безделием. И смотришь, уже за столом. Если он не выписывался за день, то считал его напрасно прожитым.
Я знал (понимал), что друг живет напряженной жизнью. Я понимал, что жизнь там, наверху, на несколько порядков сложней и… интересней, чем здесь, на периферии. И потому не требовал к себе внимания, не докучал напоминаниями о себе. Хотя и помнил всегда его просьбу, которую он высказал однажды в походе: «Будем живы, вытащи меня еще хоть разок. Если я буду упираться, бей меня палкой, коли меня ржавой вилкой…»
Откровенно говоря, я чувствую перед ним некую свою вину. Именно за то, что не выполнил эту его просьбу. Он уже тогда понимал, что столичная жизнь засосет и измотает. Что человеку время от времени надо спускаться с небес на грешную землю, чтоб подышать свежим воздухом, коснуться матушки земли, попить из ее родников. Как‑никак а там, в столичных сферах, человек стирается, в чем‑то мельчает. Обрастает комфортом, выматывается в суете и в погоне за престижными штанами и прочей чепухой. С одной стороны я понимал, что надо (ох, как надо!) хоть на время стащить Женю с Олимпа. С другой стороны считал, что неудобно делать это. Дружеские связи истончились до паугинки, а отсюда и право (да и желание!) вмешиваться в его теперешнюю жизнь.
Но работа над повестью всколыхнула, оживила во мне омертвевшие чувства, и я твердо вознамерился явиться к нему, дать прочитать повесть и напомнить ему его просьбу.
Был уже август 1986–го. Я собрался в отпуск. И не в Кисловодск, как обычно, а в Москву, к Жене.
Однажды утром шел на работу. В киоске «Союзпечать» купил «Литературную Россию», сел в трамвай и поехал
дальше. Я не читаю газет в трамвае. А тут как будто что‑то подтолкнуло меня: я развернул пахнущий типографской краской номер, и первые слова, которые попались на глаза, это были слова некролога о Жене Дубровине, подписанного Л. Ленчем и Н. Доризо. Невероятно! У меня вдруг стало пусто на душе. И первое, что я подумал: «Дособирался!» Зачем медлил? Зачем писал письма? Надо было сразу ехать к нему, как только я не нашел его имени на последней странице «Крокодила». Он не ответил на мои письма. В каждом из них я просил его сообщить мне, что там у него стряслось? Не могу ли я чем помочь? И вот вместо ответа — некролог. Жени нет.
Весь этот день работа не шла на ум. А после работы я сразу помчался домой, достал его книги, письма, фотографии и до глубокой ночи перебирал и перечитывал, не веря, что Женя теперь где‑то в другом измерении времени. Но под рукой лежал номер «Литературной России» со словами скорби в траурной рамке. А передо мной его лицо, глаза. Внимательные, умные. И улыбка. Мягкая, тонкая, словно намек. И видятся мне солнечные дни над Москвой. Мы в парке «Капуцинов» — в сквере возле общежития Литинститута — ив Серебряном Бору. Тополиный пух на улицах, и двор Литинститута на Тверском бульваре в доме Герцена. Тихий отчетливый говор Жени и тот особый праздничный уют бытия, всегда сопровождавший меня в его обществе. Это удивительное, таинственное состояние, всегда сопровождавшее меня в обществе Жени, скромно жалось теперь где‑то в темных углах моей комнаты, в которой я перебирал и перечитывал его письма. Как странно, как загадочно устроен мир жизни! Жени нет, но со мной то сладкое состояние, которое всегда нисходило на меня при нем. Что за чудо — это свойство человека одаривать других праздником жизни!
Я в Москве. Схожу на перрон Курского вокзала. Глубокая ночь. Уставший город спит беспокойно. В вокзале и на привокзальной площади толчея. На улицах хоть и безлюдно, но нет — нет и пронесется стая машин, спешащих куда‑то. И спящий город как бы вскидывается. Но машины промчались, и город снова погружается в сон.
Я иду куда глаза глядят. Меня точит одна и та же дикая мысль: я иду по Москве, которую мы с Женей облазили вдоль и поперек. Я иду, а его уже нет в живых.
На следующий день мы созвонились с Люсей. Теперь уже вдовой. Трудно описать чувства, которые я испытал,
слушая ее первые слова. Она была разбита, раздавлена горем. Еще трудней мне было взглянуть ей в глаза потом. Она извелась. Высохла от слез и горя. Первые ее слова: «Ничего не говори, Виктор. Не спрашивай. Потом». Я понимаю, ей надо было сдержаться, не плакать в электричке. Но разве это возможно?
Взглянув на меня раз и другой (я хоть и молчал, но, видно, лицо выдавало мое состояние), Люся залилась слезами. Но потом она справилась с собой и попросила меня рассказать о себе. Я стал рассказывать, она успокоилась. И вот мы на кладбище в Кунцево. Маленький холмик глинистой земли, утопающий в цветах. И среди них — портрет Жени. Вот и все. Такова жуткая реальность. А Женя на фотографии такой, каким я видел его перед собой, когда дома перебирал письма до поздней ночи: умные, добрые глаза, мягкая милая улыбка, какой‑то светлый ореол бессмертия.
Женя странно говорил о смерти. Будто смерть — это продолжение жизни. В походе он сказал мне: «Хотел бы умереть вот так. Чтоб дуб, поляна, голубое небо и омытая дождем земля». Тогда эти его слова, сказанные спокойно и даже с оттенком Мечтательности и деловитости, будто смерть его — дело предрешенное, произвели на меня ужасное впечатление. В них мне почудилась обреченность. А потом, когда я поглубже узнал Женю, я по — иному воспринимал его разговоры о смерти. Не то чтобы спокойно, просто деловито. Как если бы он рассуждал о дальней неотложной поездке. А теперь вот, у его могилы, я понял определенно — о смерти он говорил и понимал ее как продолжение жизни. Вот откуда этот светлый ореол бессмертия. Он не боялся смерти, и потому не берег себя и потому ушел из жизни безропотно. И я снова — уже в который раз за эти дни в Москве! — подумал, глядя на маленький холмик глинистой земли и на портрет, — давно ли мы, молодые и сильные ходили по Москве, мечтали и радовались солнцу. И вот…
Дома, на Мясковского, Люся представила мне взрослого уже сына Игоря и невестку Ирину. Показала кабинет Жени, стол, за которым он работал. Сбоку стола, под стеночкой, аккуратно, рядком лежат гантели. На журнальном столике — раскрытый художественный альбом репродукций с картин А. Шилова, изданный в Японии на изумительной бумаге. Альбом открыт на странице 49, где помещен портрет Жени. Случайное совпадение? 49–я стра
ница и 49 прожитых лет? Душа моя сжалась от этой мысли — видно, судьба точно отсчитала ему срок жизни.
В большой комнате над электрокамином висит этот портрет в натуральную величину, подлинник. Рядом такой же портрет Люси. Такие они молодые, хорошие. А под ними в камине — огонек. Огонек бессмертия.
Февраль, 1987 г.