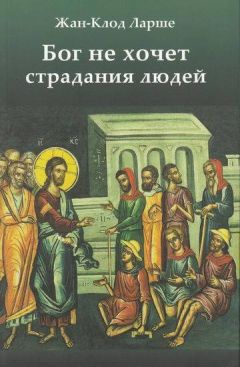Ты глядишь в квадраты рам.
Небо звездами усеяно.
Подсчитать бы, сколько ран —
Сколько ран тобой врачевано,
Милосердная сестра,
Сколько раз в снегу ночевано.,.
Так и будешь до утра
Все глядеть куда-то в прошлое,
На сиреневую ночь?
Все, что жизнью было спрошено,
Что по силам и невмочь,
Отдала ты с верой чистою,
И печалиться постой.
Веря в Жизнь, солдат от выстрела
Заслонит тебя собой.
До ухода на фронт была Галя и сестрой милосердия, десятиклассница, хрупкая и тонкая, как тростинка, носила раненых в своей школе, ставшей госпиталем. Много лет спустя по просьбе внучки она часто вынимала свою красноармейскую книжку, где был отмечен весь ее боевой путь от Сталинграда до Праги. Показывала и награды — орден "Отечественной волны II степени" и медаль "3а боевые заслуги". Это были для нее самые дорогие знаки. Давайте и мы с вами потрогаем их своими руками. А коли доведется вам посетить в Подмосковье Кунцевское кладбище, то вы сможете увидеть на одном гранитном постаменте беломраморную женщину, возлежащую над своей могилой. Женщину эту зовут Галей. Тут она — солдат бессмертного Сталинграда, обрела наконец свое вечное успокоение.
У времени и у судьбы свои законы, свои права. Я уже упомянул в "Моем Сталинграде" о том, как у начальника политотдела моей дивизии гвардии полковника Денисова спустя полгода после сталинградской эпопеи, уже на Курской дуге, под Белгородом, пришла в голову более чем неожиданная мысль: представить меня на должность заместителя редактора дивизионной газеты. Что навело его на мой след, минометчика, артиллериста в пору боев на Волге, одному аллаху ведомо. Может быть, две-три заметки, с грехом пополам сотворенные мною и напечатанные в этой газетенке с грозным названием "Советский богатырь"? Думается, однако, что заметки эти разве только при повышенном оптимизме можно было принять за признаки журналистских способностей их автора. Но как бы там ни было, но я стоял тогда перед маленьким аккуратным человеком в полковничьей форме с умными, насмешливыми глазами и слушал сентенцию относительно того, что не боги горшки обжигают, что газета не менее важная огневая точка, чем минометная рота или артиллерийская батарея, что со временем я еще буду его, гвардии полковника, благодарить, и что "балакать", собственно, больше не о чем, а надо брать предписание в зубы — он так и сказал "в зубы" — и немедленно отправляться в редакцию, которая зарылась в землянках в глубокой балке Шибекенского леса, в каком-нибудь километре от переднего края.
— Вот тут! — ткнул Денисов пальцем в лежавшую перед нами карту. — Идите!
Я вышел и призадумался. О богах и горшках слыхивал и раньше, но для меня это было слишком слабым утешением. Я подозревал, конечно, что статьи для газеты пишут не боги, а люди, но люди, хорошо владеющие своим ремеслом, и они будут совершенно правы, ежели не очень-то возрадуются моему пришествию в газету, да еще в качестве их начальника.
Но приказ есть приказ, и его надлежало исполнить!. Тяжко, до хруста в груди, вздохнув, я поплелся в редакцию. Дорога вела через помянутый Шебекинский лес. Было тихо, прохладно, пахло земляникой. Где-то выстукивал дятел, тараторила сорока — зло и насмешливо. В отдалении урчал грузовик, скрипели повозки: это устраивались на глухих полянах подразделения второго эшелона дивизии.
"В тыл, значит?" — спросил я себя с беспощадным ехидством, да еще и добавил: "Черт тебя дернул лезть в газету с теми заметками! Теперь вот станешь, боевой воин, борзописцем. Достукался!"
Как приговоренный, подходил я к редакции. Еще издали увидел блиндаж, а возле него, у входа, две кудлатые головы, склонившиеся над листом бумаги. Рядом, ни каких-то странных, отродясь не виданных мною ящиках, лежали такие же странные доски с множеством клеточек, очень похожие на пчелиные соты. Над досками, ссутулившись, стояли солдаты в полотняных испачканных краскою передниках и быстрыми движениями пальцев извлекали что-то из этих сот.
Укрывшись за деревом, я стал наблюдать за теми двумя кудлатыми. Одного узнал сразу: — это был тот самый худенький младший лейтенант, что однажды навещал мою минометную роту там, в Сталинградских степях, и опубликовавший в "Советском богатыре" статью обо мне. Под статьей была подпись — "А.Степной". Почему же Степной, а не... Я не довел свою мысль до конца, и мне почему-то сделалось еще тоскливее. На узких плечах человека куцыми крылышками лежали погоны, обозначающие самое первоначальное офицерское звание, второй, совсем юный, краснощекий, черноглазый, отчаянно жестикулируя, громко с завыванием читал стихи, видать, только что сотворенные им:
Я трубку снял. Сквозь вой метели,
Расслышанные мной едва,
До слуха быстро долетели
Ее прелестные слова,..
Младший лейтенант морщился и молчал. Черноглазый смотрел на него умоляюще и начинал снова: "Я трубку снял…"
— Лучше бы ты ее не снимал, — мрачно перебил Дубицкий (это был, конечно, он, уже признанный в дивизии поэт и секретарь дивизионки, как называли все нашу газету).
— Это почему же? — страшно удивился краснощекий красавец.
— Глядишь, не было б этих твоих стишат, Юра. "Ее прелестные слова!.." Ты еще напиши "жемчужные"! Скверно, друг мой Кузес, скверно и пошло. Девка сидит на коммутаторе, задерганная непрерывными звонками, присоленными матюками до такой степени, что того и гляди сама 'выматерит тебя... А ты — "прелестные"!
Холодок забрался под мою гимнастерку: мне стихи Кузеса ужасно понравились, и больше всего именно — "ее прелестные" слова. Но теперь я не признался бы в этом и самому Богу. Злые слова худенького младшего лейтенанта принуждали верить только им. А он, между тем, продолжал:
— Напиши "служебные", это будет правда, а главное — во сто крат поэтичнее.
Кузесу, однако, нелегко было расстаться с "прелестными", но в конца концов он согласился с ироническим своим собеседником. Прочел сызнова:
Я трубку снял. Сквозь вой метели.
Расслышанные мной едва,
До слуха быстро долетели
Ее служебные слова.
Младший лейтенант надолго умолк. Потом все же сказал:
— Сейчас лучше. Хотя "сквозь вой" — не бронзы звон. Рядом "воз-вой".. Ну да черт с тобой, Юрка! Пушкина из тебя все равно не получится. Чирикаешь, и ладно. Лавра вон еду тащит! — младший лейтенант оживился, проворно извлек из-за голенища ложку и, размахивал ею, как саблей, двинулся навстречу пожилому солдату, несущему в ведерке какую-то еду.
Кузес продолжал сидеть на месте. Тогда я еще не знал — почему. Узнал позже: у Юрки не было ни ложки, ни котелка, и он ждал пожертвований от солдат.
Когда кончился обед, я вышел из своего укрытия. Солдат-наборщик Миша Михайлов проводил меня в землянку редактора гвардии капитана Шуренкова. Тихий, весь светленький, редактор вопреки моим ожиданиям обрадовался, узнав о моем назначении
— Очень хорошю, очень хорошо!
— Ничего хорошего. Я ведь никогда не работал в газете.
— Оч-чень хорошо… Что, что вы сказали? Не работал?
— Ни-ко-гда! — выпалил я с расстановкой.
— Не боги горшки…
— Это я уже слышал, товарищ гвардии капитан. Поймите же, наконец, я никогда, ни единого дня, ни единого часа, не работал в газете.Вы со мной хлебнете горя! Начподив, наверное, не с той ноги встал сегодня. Но вы-то при своем уме! Что я у вас буду делать? Тут люди вон стихи пишут, а я...
Я поставил на карту все, чтобы меня вытурили из редакции к чертовой бабушке, и минутами мне казалось, что цель достигнута, потому что после моего такого горячего и искреннего признания редактор притих, беспокойно замигал белесыми ресницами.
— Так-таки никогда и не работал в газете?
— Ни разу. Никогда! — с величайшей радостью подтвердил я.
— Ну что ж. Очень хорошо. Будем учиться, — спокойно объявил Шуренков и, высунувшись из землянки, позвал:
— Дубицкий! Зайдите ко мне на минутку!
В землянку вошел худенький младший лейтенант.
— Знакомьтесь. Это наш новый сотрудник, мой заместитель,— указал на меня редактор. — А это секретарь газеты, младший лейтенант Андрей Дубицкий. Знакомьтесь...
— А мы с ним уже знакомы. По Сталинграду, — сказал я.
— Ах, да. Помню, помню. Ну что ж. Еще раз познакомьтесь
Познакомились еще раз. Я сделал это охотно. Дубицкий — без всякого воодушевления. Чтобы как-то расположить его к себе, вспомнил его очерк о моей минометной роте.
— Вы тогда почему-то подписались чужой фамилией, — сказал я..