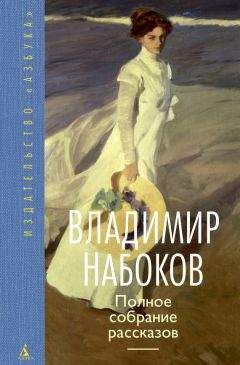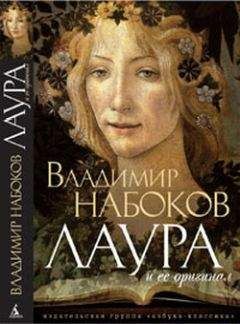Нерусские читатели не понимают двух вещей: далеко не все русские любят Достоевского, подобно американцам, и большинство из тех русских, которые его все-таки любят, почитают его как мистика, а не как художника. Он был пророком, журналистом, любящим дешевые эффекты, никудышным комедиантом. Я признаю, что некоторые эпизоды в его романах, некоторые потрясающие фарсовые сцены необыкновенно забавны. Но его чувствительные убийцы и высокодуховные проститутки просто невыносимы, во всяком случае, для вашего покорного слуги.
Правда ли, что вы назвали Хемингуэя и Конрада «детскими писателями»?{105}
Они и есть детские писатели в самом точном смысле слова. Хемингуэй, конечно, из них лучший: у него, во всяком случае, есть свой собственный голос, и ему принадлежит очаровательный, прекрасно написанный рассказ «Убийцы». Описание радужного блеска рыбы и ритмичного мочеиспускания в его знаменитой рыбной истории{106} превосходно. Но я не выношу стиль Конрада, напоминающий сувенирную лавку с кораблями в бутылках, бусами из ракушек и всякими романтическими атрибутами. Ни у одного из этих двух писателей я не могу найти ничего такого, что хотел бы написать сам. Уровень сознания и эмоций у них безнадежно юношеский, что можно сказать и о некоторых других почитаемых писателях, любимцах студенческих курилок, а также утешении и опоре студентов-выпускников, как, например… — но некоторые из них еще живы, и мне не хочется обижать еще здравствующих «стариков», когда мертвые еще не похоронены.
А что вы читали в детстве?
Между десятью и пятнадцатью годами в Санкт-Петербурге я прочитал, наверное, больше беллетристики и поэзии — английской, русской, французской, — чем за любой другой такой же отрезок своей жизни. Особенно я наслаждался сочинениями Уэллса, По, Браунинга, Китса, Флобера, Верлена, Рембо, Чехова, Толстого и Александра Блока. Другими моими героями были Скарлет Пимпернел{107}, Филеас Фогг и Шерлок Холмс. Иными словами, я был совершенно обычным трехъязычным ребенком в семье с большой библиотекой. В более позднее время в Западной Европе, между двадцатью и сорока годами, моими любимыми писателями были Хаусмен, Руперт Брук, Норман Дуглас{108}, Бергсон, Джойс, Пруст и Пушкин. Некоторые из моих любимцев — По, Жюль Верн, Эммушка Орчи, Конан Дойль и Руперт Брук — утратили для меня прежнее очарование и способность волновать. Отношение к другим остается тем же и, насколько я могу судить, уже не изменится. В отличие от многих моих современников в двадцатых — тридцатых годах я избежал влияния отнюдь не первоклассного Элиота и несомненно второсортного Паунда. Их стихи я прочитал гораздо позже, где-то в 1945-м, в гостиной одного из моих американских друзей, и остался не только совершенно равнодушен, но вообще не мог понять, почему они хоть кого-нибудь должны волновать. Однако я признаю, что произведения этих авторов сохраняют некоторую сентиментальную ценность для тех читателей, которые познакомились с ними в более раннем возрасте, чем я.
Как и что вы сегодня читаете?
Обычно я читаю несколько книг одновременно — старые книги, новые книги, беллетристику, научную литературу, поэзию и т. д., — и когда стопка из дюжины книг подле моей постели уменьшается до двух-трех, что, как правило, бывает в конце недели, я набираю новую кучу. Есть некоторые виды художественной литературы, к которым я вообще не прикасаюсь, например, детективы, которых я терпеть не могу, и исторические романы. Я так же ненавижу так называемый «сильный» роман, напичканный банальными непристойностями и диалогами; и вообще, когда я получаю новый роман от полного надежд издателя («с надеждой, что мне понравится эта книга также, как ему»), первым делом смотрю, сколько в нем диалогов, и если оказывается, что их слишком много или они слишком длинные, я захлопываю книгу и изгоняю ее с тумбочки подле постели.
Есть ли современные писатели, чтение которых доставляет вам настоящее удовольствие?
Да, у меня есть несколько любимых писателей, например Роб-Грийе и Борхес. Как свободно и приятно дышится в их великолепных лабиринтах! Я люблю их ясную мысль, эту чистоту и поэзию, эти миражи в зеркалах.
Многие критики полагают, что это описание хорошо подходит и к вашей собственной прозе. Насколько, по вашему мнению, проза и поэзия переплетены друг с другом как формы искусства?
Разница между нами только в том, что я раньше начал, — это на первую часть вашего вопроса. Что касается второй, то понятие «поэзия», конечно, включает в себя всякое литературное творчество; я никогда не видел никакой качественной разницы между поэзией и художественной прозой. И вообще, хорошее стихотворение любой длины я склонен определять как концентрат хорошей прозы, независимо от наличия ритма или рифмы. Магия просодии может, выявляя всю гамму значений, усовершенствовать то, что мы называем прозой, но и в обычной прозе есть особый ритмический рисунок, музыка точной фразировки, пульсация мысли, передаваемая идиомами и интонациями. Как и в современных научных классификациях, в наших сегодняшних концепциях поэзии и прозы много пересечений. Бамбуковый мост между ними — это метафора.
Вы также писали, что поэзия представляет «тайны иррационального, воспринимаемые через рациональные слова». Немногие полагают, что для «иррационального» осталось совсем немного места в наш век, когда точное научное значение начало проникать в самые глубокие тайны человеческого существования. Вы согласны с этим?
Такая картина очень обманчива. Это журналистская иллюзия. На самом деле, чем значительнее познания, тем сильнее ощущение тайны. Более того, я не верю, что хоть какая-нибудь наука сегодня проникла хоть в какую-нибудь тайну. Мы, читатели газет, склонны называть «наукой» ловкость электрика или болтовню психиатра. Это в лучшем случае прикладная наука, и одна из особенностей прикладной науки состоит в том, что вчерашний нейтрон или сегодняшняя истина завтра умирает. Но даже когда слово «наука» употребляется в высоком смысле, как изучение видимой и ощущаемой природы или как поэзия чистой математики или чистой философии, положение остается все таким же безнадежным. Мы никогда не узнаем ни о происхождении жизни, ни о смысле жизни, ни о природе пространства и времени, ни о природе природы, ни о природе мышления.
Человеческое понимание этих тайн воплощено в представлении о высшем разуме. И последний вопрос — вы верите в Бога?
Откровенно говоря — а то, что я собираюсь сейчас сказать, я не говорил никогда, и, надеюсь, это вызовет легкую и приятную дрожь, — я знаю больше того, что могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего.
Перевод Дениса Федосова
Август 1964
Интервью Джейн Хоуард
{109}Какие писатели, люди и места оказали на вас наибольшее влияние?
В отрочестве я был необычайно жадным читателем. К четырнадцати или пятнадцати годам я прочитал или перечитал всего Толстого по-русски, всего Шекспира по-английски и всего Флобера по-французски — не считая сотен других книг. Сегодня я могу с точностью определить, напоминает ли — по очертаниям или интонации — составленное мной предложение ту или иную фразу какого-то писателя, которого я любил или ненавидел полвека назад; я, однако, не считаю, что какой-то конкретный писатель оказал на меня определяющее влияние. Что до воздействия на меня мест и людей — многими своими метафорами и чувственными ассоциациями я обязан северорусскому ландшафту своего отрочества, и еще я знаю, что благодаря своему отцу я очень рано в жизни испытал трепет при прочтении великого стихотворения.
Подумывали ли вы когда-нибудь всерьез о карьере, отличной от писательской?
Честно говоря, я никогда не думал о писательстве как о карьере. Сочинительство всегда было для меня смесью отвращения и опьянения, пытки и развлечения — я никогда не воспринимал его как источник дохода. Более того, я часто мечтал о долгой и волнительной карьере безвестного исследователя чешуекрылых в большом музее.
Какие из ваших собственных сочинений принесли вам наибольшее удовольствие?
Рискну сказать, что из всех моих книг «Лолита» оставила после себя наиболее приятное послесвечение — может быть, потому, что это самая чистая, самая абстрактная и тщательно выстроенная моя книга. Возможно, я несу ответственность за то, что люди, кажется, больше не называют своих дочерей Лолитами. Я слышал, что с 1956 года так иногда называют самок пуделей, но не человеческие существа. Благожелатели попытались перевести «Лолиту» на русский, но результат оказался столь ужасен, что теперь я сам взялся за перевод. Слово «jeans», к примеру, переводится в русских словарях как «широкие, короткие штаны» — совершенно неудовлетворительное определение.