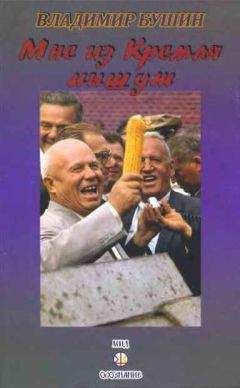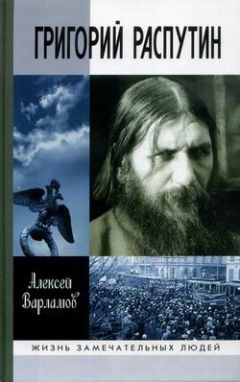У Даля читаем: «Жаль, жалость, жальба — состраданье, соболезнованье, сочувство при чужой беде, печаль, грусть, скорбь, сокрушение». Тут же и поговорка ёмкая: «Человек жалью живёт».
И как можно не пожалеть некрасовскую Катю! Она вынуждена, у нее ничего другого, кроме дара природы, нет. А она молода, легкомысленна, хочется приукрасить себя уж не парчой даже, а хотя бы ситчиком. Вот и пошла на такой риск с бродячим абрамовичем.
Но Белов своё: «Лжёте! Мужик не любил, когда его жалеют. Русский крестьянин с древних пор был достаточно горд, спокоен, снисходителен к барину, уряднику и даже царю. Напрасно господа демократы называют крестьянина рабом…» Выстрел мимо.
Ну, допустим, можно было снисходительно относиться к барину (хотя не совсем ясно, в чём это могло выражаться), но такое отношение не мешало ему, барину-то, пороть крестьянина, продавать, менять на породистых собак, заставлять его жену или дочь выкармливать грудью породистых щенков, погашать крестьянской семьёй, а то и целой деревней карточный долг, как когда-то тульский помещик граф Бобринский погасил такой долг уральскому горнозаводчику Демидову моими предками с берегов Непрядвы. И так мои однофамильцы появились и в Нижнем Тагиле. И это всё не рабство? Допустим, можно было загадочно-снисходительно относиться и к царю, которого никогда не видел, но и тому это не помешало, например, отменяя крепостное право, оставить крестьян без земли, а когда, скажем, 9 января 1905 года питерские рабочие, то есть вчерашние крестьяне, с хоругвями и его портретами пошли к царю искать защиты от кровососов вроде Чубайса и Черномырдина, это не помешало ему встретить их картечью. Допустим также, что можно быть очень гордым, можно не считать себя рабом, но рабство-то с древних пор было настоящее, узаконенное. И только одно утешение здесь: в реакционной России («Жандарм Европы») его отменили раньше, чем в прогрессивной Америке (статуя Свободы), где захватническое, чужеземное, иноязыкое рабство было ещё тяжелей.
Право, от суждений писателя о весёлых коробейниках да от его отрицания угнетённости крестьян на меня повеяло духом давних-предавних его стихов, упоминавшихся выше: «Мы и жизнь не жалели…».
В конце предисловия к сборнику Белов заметил: «Дорогие читатели, не судите о нашем выборе слишком сурово, как судит Ирина Ракша: «Шукшин ушёл вовремя, взяв предельную планку собственной высоты».
От таких доброжелательных критиков, которые пишут больше всего о себе, Шукшин, может быть, действительно ушёл вовремя… Но то, что он ушёл в полном расцвете творческих возможностей и что высота его была ещё далеко не исчерпана, у меня нет никаких сомнений». Прав Василий, хотя здесь стыдливо опустил сентенцию, стоящую у набожной писательницы в цитате после первых трёх слов: «У Бога нет безвременной смерти». Почему опустил? Да потому, что и сам он, былой комсомольский вожак, вдруг уверовал, что без воли Божьей ни единый волос не упадёт с головы человека. Что уж говорить о смерти…
Так вот оно что, православные! Выходит, нет причин горевать нам о смерти ни Пушкина в 37 лет, ни Лермонтова в 26, ни Есенина в 30, ни Маяковского в 37, ни Кедрина в те же 37… Они, по мысли Ракши, своё дело сделали, и Бог вернул их из дальней командировки. Да горевала ли она и о своем муже, замечательном художнике, Юрии Ракше, умершем от лейкоза в 42 года? Не должна бы… И вот её книга «Белый свет» (М. 2004), где много страниц посвящено и мужу и Шукшину, с которым она была знакома. Там и пишет: «У Бога безвременной смерти нет». Это о них обоих и обо всех усопших, разумеется.
Читаю я эту книги и диву даюсь: ведь давно знаю Ирину Ракшу, вроде по одной земле ходили, вроде в тех же домах бывали, вроде иногда в одних журналах печатались, а, оказывается, жизнь прожили в разных странах да чуть ли не на разных планетах.
Начать хотя бы с некоторых, так сказать, частностей о писателях. Ты пишешь, Ирина, что в твоей стране Достоевский сказал: «Русский человек без веры — дрянь!» (с.420). А в моей стране это сказал Никита Михалков, Достоевский же — ничего подобного. Как можно! Ведь большого ума человек был! В твоей стране Александр Блок был запрещён (с.386) и, естественно, не издавался, а кто имел его дореволюционные книги, тех, надо полагать, колесовали. В моей же стране Блока даже изучали в школе, а уж издавали-то без конца — и многотомные собрания сочинений, и дневники, и письма, и воспоминания о нём, а критическая литература о его творчестве — это же книжное море!.. Но интересно, это кто ж у вас запретил Блока — не Георгий ли Марков, который, оказывается, был в вашей стране членом Президиума ЦК и, конечно, имел большую власть? У нас ему это не удалось бы, ибо тут он был всего лишь членом ЦК. А это земля и небо!
Если обратиться к вопросам более важным, чем афоризмы и должности некоторых писателей, то различие наших стран оказывается еще глубже. Ты пишешь, что до революции твоя родина была «полоумной страной» (с.379), а революция и вовсе её убила (с.375), и настало «чёрное время», потянулись одно за другим «черные десятилетия» (с.328, 392), и в стране всё вершили, естественно, черные люди. В подтверждение этого цитируешь милейшую мадам Гиппиус, которая задолго до революции и до всех нынешних абрамовичей приобрела квартиру в Париже, куда в 1918 году и укатила с обоими сожителями: «Тем зверьём, что зовутся «товарищи» обескровлена наша земля». Впрочем, это помягче твоего: обескровлена, но не убита всё же.
Рассказывая о своём послевоенном иссиня-чёрном детстве, вспоминаешь с негодованием: «После войны в голодовку 46–47 годов, чтоб как-то прокормиться, моя интеллигентная красивая мама стала «на выезд» преподавать музыку» (с.356). Это, конечно, возмутительно: интеллигентка, а вместе с народом ей голодно. Это ни на что не похоже: красивая, а вынуждена работать да ещё «на выезд». Но, между прочим, в той стране, где я теперь живу, и сейчас есть интеллигентные красивые дамы, работающие именно так. Однако, горькая судьба твоей мамы имеет объяснение: как я понял из рассказа, красивая мама родила тебе братца не от твоего некрасивого папы, а от какого-то красивого женатого дяди, папа шибко осерчал и ушел. Я не осуждаю ни её, ни его, но что красивой маме оставалось делать, как не идти работать?
Ещё уверяешь, что в твоей стране «учили, что всё хорошее, настоящее началось с 1917 года» (с.360). С ума сойти! Да неужто уверяли, что, например, железная дорога Москва-Петербург, или таблица Менделеева, или поэма «Медный всадник», как и сам всадник, или Первый концерт Чайковского — всё это появилось после Семнадцатого года? Зверюги! Просто зверюги. А у нас — ничего подобного. Наоборот. Никто не скрывал, что крещение Руси произошло задолго до Октябрьской революции безо всякого решения ЦК, что Наполеона изгнали не Жуков и Рокоссовский, а Кутузов и Барклай, что тот же Пушкин не был членом ордена Ленина Союза писателей и т. д. Нет, не таили!
Естественно, тебя возмущает и то, что в твоей стране «было опасно иметь в доме икону, крестить детей, украшать к Рождеству елку, и уж тем более молиться и ходить в церковь. Это было тогда чревато гибелью карьеры и даже вообще гибелью, тюрьмой, смертью. Мы, с трудом выжившее поколение, никогда этого не забудем» (с.328). Как забыть такое чёрное время! Но церкви-то, значит, всё-таки работали? Выходит, хотя бы ценой головы можно было сходить и помолиться, и поставить свечечку за упокой собственной души, и младенчика окрестить. К тому же в одном вопросе однажды вышло послабление: «Запрет на ёлки был снят. В конце сороковых Сталин вдруг разрешил ёлки…»
Я прочитал это с изумлением и глубоким сочувствием к тебе, Ирина, как представителю чудом выжившего поколения той чёрной страны. В моей ничего подобного и близко не было. Начать хотя бы с ёлки. Ведь затея-то эта не русская и не православная, а католическая, пришла к нам из Германии вместе с бесчисленными немецкими принцессами, ставшими жёнами наших царей и великих князей. Произошло это только во второй половине XIX века. Нет же никаких ёлок ни у Пушкина, ни даже у Толстого при всём обилии у них разных балов и праздников.
Явившись из Германии, ёлка хорошо прижилась в стране, богатой еловыми лесами. А запретили её… Ну, надо думать, не запретили царским рескриптом, а стали осуждать и отринули в 1914 году, когда началась германская война. И было это при активнейшем содействии церкви, Синода. Ничего удивительного, если тогда в антинемецком порыве даже столицу переименовали на русский манер.
После революции эта тенденция царского времени сохранилась. Но опять же — никакого официального запрета, а просто — «не приветствовалось», а порой и высмеивалось. Так, Маяковский язвил:
И граждане, и гражданки,
в том не видя озорства,
превращают елки в палки
в честь Христова Рождества.
Но ведь точка зрения поэта была ни для кого не обязательна, тем более, что сам Ленин, глава правительства, заявил публично: «Я не принадлежу к числу поклонников таланта Маяковского». Более того, словно в пику поэту атеист Ленин, как известно, устроил в Сокольниках для детей ёлку, да не на Новый год, а именно на Рождество.