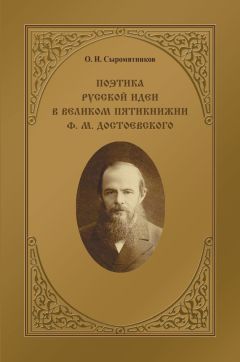Точно таким же образом обстояло дело и с «публикаторской политикой» все минувшие годы. Только очень недобросовестный человек решится утверждать, будто всё печатали до революции, а после нее русская классика была предана забвению. Со студенческой скамьи мы помним, что первое собрание Герцена в России издано в 1905 году — с купюрами, а без купюр лишь после революции. Что К. И. Чуковский в 1918-м подготовил том сочинений Некрасова, где исправил несколько сот цензурных искажений, — а раньше, несмотря на всю декларированную свободу печати, помыслить о том было невозможно[56]. Что Горький основал издательство «Всемирная литература», а разжалованный Каменев возглавлял выдающееся издательство «Асайегша» Но очевидна четко выраженная направленность в этом пореволюционном «восстановлении исторической правды» о русской культуре. Только работавшее на революционную идею. Только противостоявшее гнусной, архиглупой, подленькой (как тогда выражались) «поповщине». Только содержавшее пафос отрицания сословного строя («критический реализм», используя термин Горького). «Будильники» русской общественной мысли — Белинский, Герцен, Михайловский, Обладающий способностью к «перепахиванию» Чернышевский. Едкий Салтыков-Щедрин. Гоголь, понимаемый как сатирик, иной раз сбивавшийся на молитвы, от чего и помер прежде времени. Писарев. Но — не Владимир Соловьев, не Дмитрий Мережковский, не Достоевский. Не Конст. Леонтьев, не Хомяков, не св. Иоанн Кронштадтский. Здесь также на смену некоторой неполноте культуры пришла полная избирательность. То есть — та же идеология. На первых порах достаточно умно осуществляемая по-своему Честными людьми, но подобная прокрустову ложу. Прокруст может быть гуманнее, и тогда он укоротит тело за счет ног, и — бесчеловечнее, тогда полетят головы. Принцип действия ложа от того не изменится, и рано или поздно Прокруст будет вынужден опробовать его на себе (что и произошло).
На первых порах процесс «возвращения» прошлого вызывал ажиотаж и нервное возбуждение, главных врагов анализа и трезвого размышления. Но вот напор ослаб, осадок лег на дно, и все очевиднее, что вместо желанного обретения полноты своего исторического бытия мы просто получили очередную смену экспонатов коллекции и заменили одну идеологию на другую.
Если я попытаюсь продемонстрировать «музейное» смешение прошлого и настоящего, своего и чужого, когда уравнивается в правах любой словесный антиквариат, на примере публикаторской деятельности обновленной редакции кишиневских «Кодр»[57] то именно потому, что это издание имеет мужество прочертить «линию» до конца. В 1989 году здесь появились «Рассказы» Гумилева, «Соглядатай» и другие новеллы Набокова, продолжилась публикация «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертого» Дж. Оруэлла, записок Хрущева (после «Огонька», перед «Военно-историческим журналом» и — чуть было не — вместе со «Знаменем», прервавшим печатание как раз по причине массированных распечаток этих воспоминаний)… Добавим сюда стихи Б. Савинкова 1911–1913 годов, Т. Г. Шевченко, статью о Лермонтове Д. С. Мережковского… 1990 год подарил нам главы из мемуаров Деникина, книгу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», не раз переводившуюся на русский язык до революции. Случай с набоковской «Лолитой», задолго до появление на страницах «Кодр» успевшей выйти отдельной книгой в приложении к «Иностранной литературе», — вообще символичен. Не хочешь, а задашь вопрос: где связь между всем этим? Почему все смешалось на страницах действительно принципиального в своем демократизме журнала?
Пожалуй, у него-то как раз есть некоторые «стратегические» основания допускать мирное сосуществование в своих пределах украинца Шевченко и немца Ницше, англичанина Оруэлла и русского Деникина (об основаниях тактических — проблеме тиража и заполнения вакуума — скромно умолчим). Молдавия — страна романская, некогда искусственно изолированная от романского мира; как нереализованный комплекс таила она в себе тоску по европейской культуре, которую по праву языка могла считать отчасти и своею. И вот, дорвавшись до мирового литературного пиршества, она стремится скорее насытить себя информацией, чтобы в конечном итоге, достроив свое здание до полноты исторического замысла, успокоить обостренное чувство причастности и войти в сонм европейских народов на равных.
Что тут возразишь?
О необходимости блюсти диету голодным говорить бестактно, особенно если сам голоден и сам с жадностью кидаешься на любую духовную пищу. Следовательно, через этап всеядности пройти необходимо — но именно пройти насквозь, чтобы выйти к чему-то иному, а не застрять у поворота. К тому же в дом, где ты некогда жил (на верхнем ли этаже, в полуподвальном ли помещении — не суть важно), откуда волею исторических обстоятельств был изгнан и где намерен вновь поселиться, можно прийти и с пустыми руками. Там соберут с миру по нитке, в беде не оставят. Вы хорош будет у нас вид в этом респектабельном обществе! Довоенная английская шляпа, американские лаковые ботинки, деникинский френч и немецкое пенсне на цепочке… Поэтому лучше прийти в своей одежде, пусть скромной, но свободной от франтоватости пугала. Стать причастным чему-либо можно или получив во владение часть чужого достояния, или внеся в него свою долю. Каждый выбирает, что ему ближе. Мне ближе — «Молдавия литературная», когда она печатает Мих. Эминеску и совершает тем самым дарение миру, ибо этот румыно-молдавский классик есть символ единения народа, рассеченного бессарабской границей. Или когда она покаянно возвращается к наболевшей теме — кишиневскому погрому 1903 года, помещая статью Льва Беринского «Несколько напоминаний к не совсем крупной дате» и фрагмент «Сказания о погроме» Хаима-Нахмана Бялика (имя, от которого бросит в жар любого «памятливого» читателя).
Эту публикацию, кстати, можно было бы и расширить, дав слово не только страдающей, но и сострадающей стороне. Так, в газете «Новости» от 30 апреля 1903 года был напечатан текст выступления св. Иоанна Кронштадтского: «Прочел я в одной из газет прискорбное известие о насилии христиан кишиневских над евреями, побоях и убийствах, разгроме их домов и лавок, и не мог надивиться этому из ряду вон выходящему событию. (…) И когда он (погром) совершился? На пасхальной неделе, когда вся тварь небесная и земная, ангелы и верные христиане ликуют о Воскресении из мертвых как начатке общего воскресения всего рода человеческого… Русский народ! Братья наши!. Зачем вы сделались варварами — громилами и разбойниками людей, живущих в одном с вами Отечестве?..» Есть и другие не менее интересные свидетельства; но за счет чего расширять объем публикаций в относительно небольшом журнале? За счет «Лолиты»?
Вновь и вновь встает не только перед «Кодрами», но и перед всеми нами проблема — кто к кому возвращается. Мировая культура к нам, неся в роге изобилия роскошные, но кем-то другим созданные дары, или мы к ней? В первом случае процесс наследования будет означать нисхождение, во втором — восхождение.
Вверх идти куда труднее, и если бы, скажем, «Литва литературная», с августа 1989 года ставшая «Вильнюсом», просто перепечатала книгу Н. А. Бердяева о русском коммунизме, как это сделал — ориентируясь на своего читателя — журнал «Юность» (1989, № 11), или статью Д. С. Мережковского о Лермонтове «Поэт сверхчеловечества», подобно «Книжному обозрению», «Огоньку», «Молдавии литературной», «Простору», «Вопросам литературы», «Нашему наследию», «Литературному обозрению»[58],— это было бы для нее как легче в техническом отношении, так и прибыльнее в кассовом. На такую приманку тогда подписчик еще бы клюнул. Не только литовский. И даже не столько литовский, — как «клюнул» он на перепечатку в том же «Вильнюсе» записок Ольги Ивинской о Б. Л. Пастернаке (1989–1990). Но в данном случае журнал пошел другим путем: опубликовал переписку Бердяева и Мережковского с вильнюсским профессором М. Здеховским (соответственно №№ 11 за 1989 и 1 за 1990-й). Конечно, читать о Лермонтове высокие и насквозь прожигающие какою-то страшноватой энергией слова куда интереснее, чем продираться сквозь суховато-информативный эпистолярий двух людей, не слишком заботившихся о том, чтобы их разумели посторонние: «Но вы и эти каракули поймете и почувствуете, как мы в этом близки с Вами (при всей нашей далекости по вопросу о католической, Римской, или кафолической, Вселенской, еще не явленной Церкви)…» Мариан Эдуардович-то понял Дмитрия Сергеевича, в том не приходится сомневаться, но многие ли современные люди без нудного комментария способны разобрать, чем католичность отличается от католичности? Тем большее уважение вызывает решение редакции отстаивать в прошлом — своё, не унижаться заемами и не идти на поводу у всеобщей истерии. А если кому-то покажется, что пример слишком эстетский и мною движет филологическое пижонство, — что же, поблизости от «Вильнюса», в латышском молодежном «Роднике», в 1987–1988 годах было блестяще продемонстрировано умение сочетать «гуманитарность» и «популярность». Здесь достаточно долго вел антологию «Из истории русской поэзии» один из лучших литературоведов поколения «сорокалетних», Роман Тименчик. Анталогию, в которую попали 12 русских поэтов «серебряного века», так или иначе связанных с Латвией (кто же не любит Рижское взморье!). Безупречно отобранные стихи — Александра Добролюбова или Иннокентия Анненского, Всеволода Кривича или Зинаиды Гиппиус — каждый раз как бы встраивались в рамку краткой вводной статьи, стилизованной под эссе начала века, с преобладанием зеленовато-сиреневых, сизотуманных «борисово-мусатовских» тонов, с господством пластического образа над терминологической определенностью. Между тем все, чтобы читатель смог «ощутить, как жизнь поэта становится его судьбой, то есть стихами» (удачное выражение одного из рецензентов антолгии), здесь есть. Главное — единство стиля Поэта и размышляющего о нем филолога, отказ от культурной экспансии, духовная скромность и священное чувство дистанции, которую нам предложено преодолеть. Преодолев ее, мы становимся зваными гостями на пиру всеблагих, тогда как, проглотив на бегу «Лолиту» и закусив ее «Поэмой о Франциске Ассизском», в лучшем случае оказываемся потребителями.