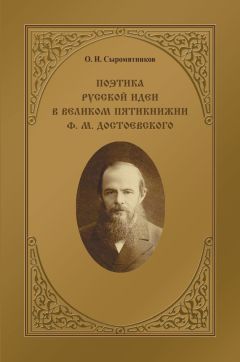«Идеологичность» обращения к истории, «судебный иск», предъявляемый предшественникам (даже тем, последователями которых мы не согласимся считать себя ни при каких обстоятельствах) оборачиваются против «судей», лишая их слова «сермяжной правды», буде она в них содержится. Так, в принципе трудно что-либо возразить против некоторых куняевских упреков Багрицкому в воспевании жутковатого принципа «Если скажут тебе — «убей!» — «убей!», — прозвучавших в его выступлении на дискуссии «Классика и мы» (как раз оно-то и придало ей привкус скандальности). Много справедливого было сказано им и о «романтически-революционном» поколении ИФЛИйцев, о «мировой мечте», сжигавшей их. Во всяком случае, ныне покойный А. Якобсон в давней (ныне перепечатанной «Новым миром» 1989, № 4) статье «О романтической идеологии» писал о том же времени, тех же героях и тех же взглядах не менее, если не более, жестко, однако такой бури возмущения, граничащего с восторгом, она не вызвала. И совсем не потому, что автор окончил дни свои в Иерусалиме и никак не может быть заподозрен в антисемитизме, а потому, что статья его была начисто Лишена злорадства и создавалась не ради того, чтобы выявить злоумышленников, осудить или оправдать кого-то, разоблачить, вскрыть, обнаружить, но для того, чтобы разобраться, чтобы — осознать. Высказываниям же Куняева, при всей верности от дельных его суждений, не хватает главного — свободы от идеологии, в них начисто отсутствует то чувство истории, которое М. Чудакова определила в одной из лучших своих работ («Новый мир», 1988, № 10) как — «Без гнева и пристрастия»…
В этом контексте несколько иным смыслом наполняется одна из последних литературных баталий.
В апрельской книжке «Октября» за 1989 год появился крохотный — всего-то 4 журнальных странички — фрагмент из книги Абрама Терца (псевдоним А. Синявского) «Прогулки с Пушкиным». О творении Терца могут быть разные мнения; на мой вкус, оно не остроумно, игровая стихия в нем не по-пушкииски тяжеловесна и автор слишком скован в своем «панибратстве» с классиком. Но дело не в Терце и даже не в Пушкине, дело — в нас. Дело в нашем нежелании видеть дальше собственного носа и умении превращать живых писателей — в символы, знаки и атрибуты. В той полемике, которая разгорелась после выхода «Прогулок…», о Терце говорили мало, о Пушкине еще меньше, все сводилось к иному.
Совокупную точку зрения тех, кто был возмущен действиями «Октября», предоставившего свои страницы порочному сочинению Терца-Синявского, с подкупающей бесхитростностью выразил Юван Шесталов: «Духовность кто-то пытается поломать. И я сегодня хочу повторить слова: «Отечество в опасности!» (…) Сегодня хочется говорить о главном. О России, потому что здесь — главный нерв». Вопреки пушкинскому упованию, имя Поэта называет «всяк сущий (…) язык — / И внук славян, и финн, и ныне дикой /Тунгус, и друг степей калмык» не ради самого имени, и защищают Пушкина от терцевской иронии не ради самого Пушкина, а ради некой идеологической реальности. Защищают — подчеркну — и не Россию, на которую Терц не покушался[61]; борьба идет за право воспринимать живого и неотторжимого от русской истории и русской литературы величайшего нашего классика как своего рода «домашнее божество», хранителя очага, гаранта национального единства. Именно этим обстоятельством объясняется общеизвестный парадокс: когда несколько лет назад поэт Юрий Кузнецов напечатал в альманахе «Поэзия» хамоватую и даже не панибратскую, а высокомерную статью о «первом поэте России», никто из нынешних обличителей Терца не возмутился. Некоторые даже писали вполне сочувственно об исчерпанности пушкинской линии в русской литературе. И причина тому — отнюдь не групповые предпочтения. Дело исключительно в том, что мрачноватосерьезная статья Ю. Кузнецова била по Пушкину как таковому; Синявский же (Терц!) сознательно направил жало своей еретической иронии в самую сердцевину идеологического мифа о Поэте, и все это прекрасно почувствовали, только сказать не могли.
В гротескной истории с «Прогулками…» обрел итог многолетний и вполне трагичный процесс подмены истинного Бога — мнимыми. Обожествляемые в том неповинны; более того, каждая здоровая культура нуждается в сакрализации одного, первого среди равных, Патриарха своей словесности. Главное — не переходить границы между преклонением и поклонением. Мы же пересекаем ее постоянно. Я, к сожалению, не имею возможности читать по-грузински, или по-украински, или по-польски, но то, что у нас происходит ныне с Пушкиным, вполне может произойти с любым Патриархом любой словесности — Чавчавадзе, Шевченко, Мицкевичем… Мирской культ всегда проще и соблазнительнее религиозного; он доступен всем и всех устраивает. Интеллигенты могут поклоняться пушкинскому свободолюбию и страстотерпничеству, так называемые «обычные» люди, приобщаясь к нему, испытывают иллюзию своей причастности «высокой» культуре (Пушкин прост, да велик), власть предержащие довольствуются тем, что вера в Поэта уводит тысячи и тысячи людей по «народной тропе» от врат Церкви… Но на деле этот культ далек от культуры, немыслимой без чувства внутренней свободы, и от религиозного Культа, невозможного без отречения от «самости». Он дает иллюзию и не требует жертв, позволяя, вопреки пословице, вытащить рыбку из пруда без труда. И главное, готов повторить еще и еще раз, он умерщвляет Писателя. Один из моих друзей по этому поводу любит вспоминать знаменитую литературную байку Виктора Шкловского: тот в 1937 году, в самый разгар торжеств по случаю 100-летия со дня кончины поэта, был в Болдине. И лицезрел шествие ряженых: на повозках ехали Пугачев и Гринев, лощеный Онегин и толстый Ленский, а в самый конец процессии пристроилась тачанка с Василием Ивановичем и Петькой. Помилуйте! — воскликнул Шкловский. — Но у Пушкина нет таких героев! — А нам все равно! — раздалось в ответ. То же отношение чувствуется и в сегодняшних баталиях.
Какое-то время назад мне, и не только мне, казалось, что возвращение в наш ежедневный обиход священных текстов само собою снимет «проблему Пушкина» и предотвратит дальнейшее использование «храма под капище» (выражение литературоведа О. Проскурина из его ответа на пушкинскую анкету «Литературного обозрения», 1989, № б, где он, не называя имен, предсказал все, что последовало за только предполагавшейся тогда публикацией фрагмента «Прогулок с Пушкиным»), Нашими бы устами да мед пить действительность развеяла мечты.
Первым новозаветные тексты начал было печатать (да быстро опомнился) журнал «В мире книг»; переименованный в «Слово», он переменил и ориентацию: теперь там опубликован последний труд классического позитивизма, ренановская «Жизнь Иисуса». Последний в том смысле, что за прошедшее после его создания столетие эта традиция ничего заметного предложить миру больше не смогла. Хотя и старалась.
Затем «Литературная учеба» приступила к публикации «Евангелий» в новом переводе киевского священника о. Леонида (Лутковского). В 1991 году здесь же напечатан перевод Деяний апостолов и посланий, выполненный ленинградской группой, стоящей на иных переводческих принципах.[62]
Тем временем наши работницы получили возможность прочесть в своем журнале Экклезиаст с пояснениями Аверинцева, любители «Кодр» также готовятся прочесть Новый Завет, — правда, в синодальном переводе и без комментариев.
Сразу четыре журнала отдали свои страницы Корану: «Наука и религия», «Памир» (русский перевод), «Идель» (по-татарски), «Звезда востока» (тоже по-русски). И если о Ренане говорить бесполезно, потому что это уж точно не наследие, а факт научного плюсквамперфекта, то необходимость всех остальных публикаций в принципе не должна бы подвергаться сомнению. С чего же начинать восстановление полноты своего исторического бытия, как не с этого «пласта», не навязывая друг другу убеждений, но приобщаясь к сакральным истокам?
Однако спросим себя: а на какой язык мы намерены заново переводить Писание? На язык очередей, на латинизированную ораторскую мешанину? Другого-то не знаем, не обучены. Когда о. Леонид в первой же главе Евангелия от Матфея (в его версии — «Евангелие Матфея», что полностью меняет смысл; евангелист из «записывателя» Богодуховенного текста превращается в автора) архаические формулы заменяет более понятными, им движут самые благородные просветительские помыслы, — но что выходит? Вместо «Иосиф (…у хотел тайно отпустить Ее (…)» — «Иосиф (…) решил тайно расторгнуть помолвку с нею». «Расторгнуть помолвку» звучит привычнее, чем «решил отпустить», но именно по этой причине не подходит. За словом выстраивается ряд ассоциаций, связанных с послехристианской эпохой, с Европой XIX века, с предреволюционной Россией, с Диккенсом и Боборыкиным, но никак не с первым годом по Рождестве Христовом и не с Матфеем-Евангелистом. Кажущаяся близость понятия, как это часто бывает, оборачивается исторической близорукостью. Но гораздо хуже, когда ради пущей современности слова приходится жертвовать его целомудренностью. «И не знал Ее, как наконец Она родила Сына своего первенца (…)» — гласит 25-й стих первой главы в синодальном переводе. «(…) и не обладал Ею», — читаем мы у отца Леонида. Комментарии излишни.