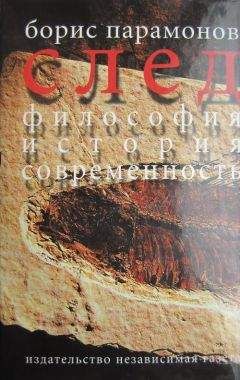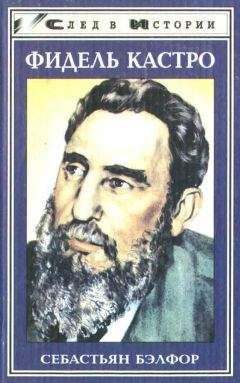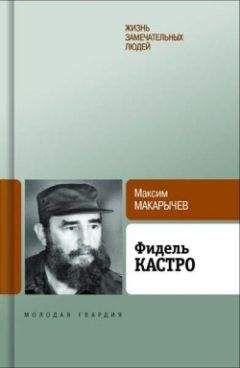Но значит ли все сказанное, что миф Киреевского — это, говоря без обиняков, сознательная и заведомая ложь? Конечно, нет. Нужно очистить понятие «миф» от расхожего, политически-пропагандистского его употребления. В этой процедуре мы должны опираться не столько на Ницше, сколько на Юнга. Миф относит нас к понятию архетипа, а если говорить еще философичнее — к платоновским эйдосам (идеям), этим вечным и неизменным моделям бытия. Миф, таким образом, — это вечная правда, то, что обращено не к современности и даже не к прошлому (хотя прошлое ему, так сказать, больше к лицу), а к некоему вечному настоящему, пребывающему во времени без перемен. Мифы и архетипы — это и есть область искусства, то, что прежде всего видит подлинный художник. Миф — это не то, что выдумано, а то, что открыто в бытии, извлечено из-под спуда как его, бытия, последняя правда. Киреевскому было дано едва ли не первому в России этот процесс художественного мифотворчества более или менее осознать, положить в основу философствования о России. Он ступил на путь воссоздания ее художественного образа. Его пример уже открывает нам не «истину славянофильства», а истину о славянофильстве: именно, что оно было теоретически-философским предвосхищением практики русской литературы, ее если не тематикой, то методологией.
Психология самого Киреевского — психология анахорета — способствовала ему в его поисках: интроверт стоит ближе, чем кто-либо, к первоисточникам бытия и острее их ощущает. Об этом пишет в «Психологических типах» К. Г. Юнг[16].
На примере Киреевского мы можем понять, в чем прав и в чем ошибается Гершензон, говоря о славянофильстве. Он не прав, отрывая Киреевского от «почвы», от России. Через анализ индивидуального мифа Киреевского мы снова вышли к «почве» — к мифу о России. Но миф — это правда, ставшая поэзией, художественная правда. Киреевский открывает нам не эмпирическую правду о России и ее исторических путях, а ее архетип, ее вечный образ. Этот образ будет воспроизводить русская литература — от Толстого до Пастернака.
Но Гершензон прав, когда он ополчается на само слово «славянофильство», на специфический смысл, вкладываемый в него продолжателями Киреевского. Методология Киреевского универсальна, она способна на большее, чем правда о России. Он открывает нам закономерности романтического мировоззрения на частном примере, закономерности романтической реконструкции бытия. Недаром Киреевский идет к Шеллингу, ему уже мало святых отцов для адекватного философствования. Способ ви́дения России, открытый Киреевским, — тот же, с помощью которого немецкие романтики видели Германию, английские — Англию и т. д. Мифы, открываемые романтизмом, не только безвременны, они безнациональны, они онтологичны — соотносимы с бытием как таковым. «Национальные особенности» — это особенности частной обработки мифа, связанные прежде всего со стихией языка.
Люди, которых называют славянофилами, славянофилами в действительности не были: они прозревали некую истину не о русском народе, а о бытии. Но то, что они увидели, они сказали по-русски, произнесли на русском языке. Строго говоря, так называемое славянофильство — это язык. И язык этот — русский. Можно ли приписать национализм — языку?
2. Славянофильство как религиозная интуиция (Константин Аксаков)
Символической фигурой славянофильства был Константин Сергеевич Аксаков. Годы его жизни — 1817–1860. Он умер вслед за своим отцом, Сергеем Тимофеевичем, автором «Семейной хроники». Эта смерть — самое замечательное, интересное и загадочное в Аксакове-сыне. Как всегда, в загадке таится разгадка.
Аксаков был самым боевым из славянофилов, самым шумным и крайним, «передовым бойцом славянофильства», как назвал его профессор Венгеров. Вершина его задиристой публицистики — статья «Публика и народ». Это у него не социологические категории (вроде господ и простонародья), а культурфилософские, относящие к философии русской истории. «Народ» — та часть русской нации, которая сохранила бытовой и бытийный стиль допетровской Руси: не только крестьяне, но, допустим, и сами славянофилы. «Народ» — это Москва, «публика» живет в Петербурге. По-другому это различение называлось «государство и земля». Петербургский период русской истории — это ее государственный период, в допетровской Руси, согласно Аксакову, государства не было — государства как внешней, формально организующей (на манер пресловутого «Рима»), неорганической силы.
Эмпирическая несостоятельность этой теории не требует доказательств (хотя и в доказательствах недостатка не было, хотя бы у Чичерина). «Земля» — это не сельскохозяйственные угодья, а «община»; и община, опять же, — это не способ примитивного крестьянского землеустроения, а нравственный союз, реализующий в самой глубине своего бытия идеалы христианской правды. Вот несколько цитат из Аксакова:
История русского народа есть единственная во всем мире история народа христианского не только по исповеданию, но по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей жизни. <…> Дух нашего народа есть христианско-человеческий. <…> Русская история имеет значение Всемирной Исповеди. Она может читаться, как жития Святых. <…> Крестьянин в народе умен умом народным. Поэтому всякий человек в народе, глуп он или нет, имеет значение и голос: глупого человека при народной жизни быть не может.
Последние из процитированных слов относят уже к мифологизированной славянофилами общине. Вот какую развернутую характеристику дает ей Аксаков:
Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей, и являющих общее их согласие: это действо любви, высокое действо Христианское, более или менее неясно выражающееся в разных (других) своих проявлениях. Община представляет таким образом нравственный хор…, <…> это устройство <…> разумно-человеческое, а не естественно-человеческое…
Институту поземельной собственности придаются черты первохристианской общины.
Личность поглощена в общине только эгоистическою стороною, но свободна в ней, как в хоре. Хоровое чувство земли. Личность как фальшивая нота в хоре.
И наконец:
Русский народ не есть народ; это человечество; народом является он оттого, что обставлен народами с исключительно народным (в контексте, «языческим». — Б. П.) смыслом, и человечество является в нем потому народностью.
Аксаков видит в некоторых формах народной жизни прямо-таки теургическое преображение бытия:
Чрезвычайно замечательны обычаи, где вся жизнь, не переходя в мир искусства, а оставаясь вполне жизнью, проникается духовным светом и мыслию, где слово также просветляет и становится поэтическим. Все разговоры, все действия, все проникнуто значением высоким, внутренним смыслом жизни. Само «язычество Русского славянина» было самое чистое язычество.
Естественно, что на такой высоте отпадает надобность в тех формах общежития, которые необходимы в обычных, смело можно сказать — земных измерениях бытия:
Смысл общий Русского человека — свобода, свобода истинная, и отсутствие условности всюду. — Придется при этом расстаться со многими красивыми приемами и заманчивыми штучками свободы внешней, политической. <…> Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощию зла14.
Последние слова — о «гарантии», то есть о тех юридических определениях общественно-политической жизни, которые уже Киреевский считал выражением односторонне рассудочной европейской образованности, — относят непосредственно к теме «государства»: имеется в виду гарантия от его посягновений на внутреннюю полноту и правду жизни общинной, «земской». Одно место у Аксакова позволяет косвенно, через определение «государства», понимать «землю» — исконный строй народной жизни — именно как «царство небесное»: государство «есть его собственное, человеческое создание, царство от мира сего (курсив подлинника. — Б. П.), следовательно, не Божие царство», — и следовательно, через это отрицательное определение мы вправе понимать аксаковскую трактовку «земли», во всем государству противоположной, как «Божие царство». Оппозиция этих двух начал дается Аксаковым следующим образом:
Государству — неограниченное право действия и закона, Земле — полное право мнения и слова… внешняя правда — Государству, внутренняя правда — Земле; неограниченная власть — Царю, полная свобода жизни и духа — народу; свобода действия и закона — Царю, свобода мнения и слова — народу…15.
Итак, быт и бытие «земли» предстают у Аксакова носителем христианской правды. Община — реликт этой правды в послепетровской огосударствленной, то есть расколотой, разъятой в своей органической целостности, России. Строй русской народной жизни тот же, что в первообщине христианских подвижников. Строго говоря, русский народ — тот, что живет в общине, — это Церковь, во всей мистической глубине этого понятия. Здесь мы встречаемся со знаменитым славянофильским синкретизмом, славянофильским отождествлением идеального и реального. Критики славянофильства писали, что его эволюция была разложением этих некритически отождествленных элементов, что этот синтез был искусственным, неорганичным, что держался он у самих ранних славянофилов не внутренним логическим единством, а в чисто психологическом, субъективном переживании.