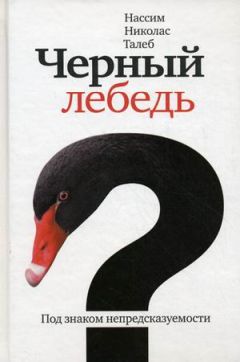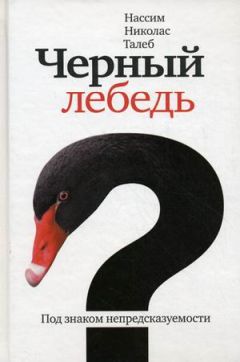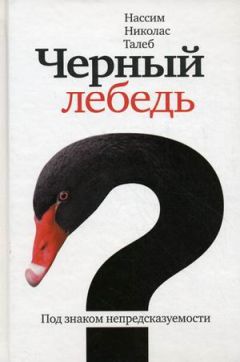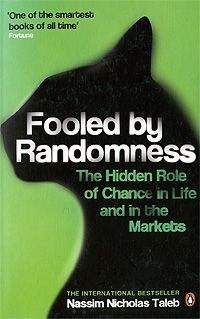Мне не очень интересно «обычное». Если вы хотите получить представление о темпераменте, моральных принципах и воспитанности своего друга, вы должны увидеть его в исключительных обстоятельствах, а не в розовом свете повседневности. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, наблюдая его поведение в течение обычного дня? Можем ли мы понять, что такое здоровье, закрывая глаза на страшные болезни и эпидемии? Норма часто вообще не важна.
Почти все в общественной жизни вытекает из редких, но связанных между собой потрясений и скачков, а при этом почти все социологи занимаются исследованием «нормы», основывая свои выводы на кривых нормального распределения[5], которые мало о чем говорят. Почему? Потому что никакая кривая нормального распределения не отражает — не и состоянии отразить — значительных отклонений, но при этом вселяет в нас ложную уверенность в победе над неопределенностью. В этой книге она будет фигурировать под кличкой ВИО — Великий Интеллектуальный Обман.
Главным толчком к восстанию иудеев в I веке нашей эры было требование римлян установить статую императора Калигулы в иерусалимском храме в обмен на установку статуи еврейского бога Яхве в римских храмах. Римляне не понимали, что иудеи (и более поздние левантийские монотеисты) понимают под богом нечто абстрактное, всеобъемлющее, не имеющее ничего общего с антропоморфным, слишком человеческим образом, который возникал в сознании у римлян, произносящих слово deus. Наиважнейший момент: еврейский бог не укладывался в рамки определенного символа. Но так же и для меня то, на что принято навешивать ярлык «неизвестного», «невероятного» или «неопределенного», является чем-то принципиально иным. Это отнюдь не конкретная и точная категория знания, не освоенная «ботаниками» территория, а полная ее противоположность — отсутствие (и предельность) знания. Это антипод знания. Давайте отучимся употреблять термины, относящиеся к знанию, для описания полярного ему явления.
Платонизмом — в честь философии (и личности) Платона — я называю нашу склонность принимать карту за местность, концентрироваться на ясных и четко очерченных «формах», будь то предметы вроде треугольников или социальные понятия вроде утопий (обществ, построенных в соответствии с представлением о некой «рациональности») или даже национальностей. Когда подобные идеи и стройные построения отпечатываются в нашем сознании, они затмевают для нас менее элегантные предметы с более аморфной и более неопределенной структурой (к этой мысли я буду многократно возвращаться на протяжении всей книги).
Платонизм заставляет нас думать, что мы понимаем больше, чем на самом деле. Я, впрочем, не утверждаю, что платоновых форм вообще не существует. Модели и конструкции — интеллектуальные карты реальности — не всегда неверны; они лишь не ко всему приложимы. Проблема в том, что а) вы не знаете заранее (только постфактум), к чему не приложима карта, и б) ошибки чреваты серьезными последствиями. Эти модели сродни лекарствам, которые вызывают редкие, но крайне тяжелые побочные эффекты.
Платоническая складка — это взрывоопасная грань, где платоновский образ мышления соприкасается с хаотичной реальностью и где разрыв между тем, что вам известно, и тем, что вам якобы известно, становится угрожающе явным. Именно там рождается Черный лебедь.
Говорят, что, если на съемочной площадке у знаменитого кинорежиссера Лучино Висконти актеры что-то делали с закрытой шкатулкой, в которой по сюжету лежали бриллианты — там на самом деле лежали настоящие бриллианты. Это неплохой способ заставить актеров прочувствовать свою роль. Я думаю, что в основе причуды Висконти лежит его эстетическое чутье и стремление к подлинности — в конце концов, обманывать зрителя как-то нехорошо.
В этом эссе я развиваю одну основополагающую мысль; я не пережевываю и не переупаковываю чужие идеи. Жанр эссе предполагает импульсивную медитацию, а не научный отчет. Приношу извинения за отсутствие нескольких очевидных тем в этой книге; я исходил из убеждения, что материя, которая для автора слишком скучна, может оказаться скучной и для читателя. (Кроме того, избегая скучных тем, можно отфильтровать несущественное.)
Разговоры в пользу бедных
Кто-нибудь, кого перекормили философией в университете (или, возможно, не докормили), может возразить, что встреча с Черным лебедем не опровергает теорию о белизне всех лебедей, поскольку такая черная птица формально не является лебедем, ведь, по его убеждению, белизна — одна из составных понятия «лебедь». Действительно, читатели Витгенштейна[6] (и читатели статей о комментариях к Витгенштейну) склонны приписывать языку слишком большую роль. Лингвистические упражнения и впрямь очень нужны для упрочения репутации на философских факультетах, но мы, практики, принимающие решения в этом мире, оставляем их на выходные. В главе «Неопределенность шарлатанства» я объясняю, что при всей интеллектуальной привлекательности этих милых штучек, с понедельника по пятницу куда важнее для нас другие предметы (о которых часто забывают). Люди за кафедрами, которым не приходилось принимать решения в неопределенной ситуации, не отличают существенное от несущественного, и это относится даже к тем, кто изучает проблему неопределенности (и даже в первую очередь к ним). Практикой неопределенности я называю пиратство, биржевую спекуляцию, деятельность профессиональных игроков, работу в определенных подразделениях мафии и серийное предпринимательство. Таким образом, я не приемлю ни «пустопорожнего скептицизма», с которым мы не в состоянии бороться, ни теоретизирования вокруг языковых проблем, которые превратили значительную часть современной философии в нечто абсолютно бесполезное для тех, кого презрительно называют «широкими массами». (Немногие философы и мыслители прошлого, хорошо это было или плохо, как правило, зависели от меценатов. Сегодня специалисты в области отвлеченных наук зависят от отношений внутри собственных сообществ, нередко превращающихся в патологически келейную ярмарку тщеславия. У старой системы было много недостатков, но она, по крайней мере, требовала от философов хоть какой-то привязки к реальности.)
Философ Эдна Ульман-Маргалит отметила непоследовательность в настоящей книге и попросила меня обосновать использование конкретной метафоры «Черный лебедь» в качестве символа того, что неизвестно, абстрактно и абсолютно неконкретно — белых воронов, розовых слонов или наших братьев по разуму на некой планете в системе звезды Тау Кита. Да, она поймала меня за руку. Здесь есть противоречие. В этой книге я выступаю как рассказчик; я предпочитаю строить повествование как череду историй и сценок для иллюстрации нашей привычки в них верить и нашей любви к опасным упрощениям, которые таит в себе любой сюжет.
Чтобы опровергнуть одну историю, нужна другая истории. Метафоры и истории (увы) гораздо сильнее идей; кроме того, они легче запоминаются и приятнее читаются. Если и собираюсь атаковать «нарративные дисциплины», как я их называю, мое лучшее оружие — нарратив.
Идеи появляются и исчезают, истории остаются.
Цель этой книги — не просто раскритиковать «гауссову кривую» и заблуждения статистики, а также платонизирующих ученых, которые просто не могут не обманывать себя всякими теориями. Я хочу «сконцентрироваться» на том, что имеет для нас реальное значение. Чтобы жить сегодня на нашей планете, нужно куда больше воображения, чем нам отпущено природой. Мы страдаем от недостатка воображения и подавляем его в других.
Прошу заметить, что в этой книге я не прибегаю к дурацкому методу подбора «подкрепляющих фактов». По причинам, к которым мы обратимся в главе 5, я называю переизбыток примеров наивным эмпирицизмом: набор анекдотов, умело встроенный в рассказ, не является доказательством. Тот, кто ищет подтверждений, не замедлит найти их — в достаточном количестве, чтобы обмануть себя и, конечно, своих коллег[7].
Концепция Черного лебедя основана на структуре случайности в эмпирической реальности.
Обобщаю: в этом (глубоко личном) эссе я делаю наглое заявление, противоречащее многим нашим мыслительным привычкам. Оно заключается в том, что миром движет аномальное, неизвестное и маловероятное (маловероятное с нашей нынешней, непросвещенной точки зрения); а мы при этом проводим время в светских беседах, сосредоточившись на известном и повторяющемся. Таким образом, каждое экстремальное событие должно служить точкой отсчета, а не исключением, которое нужно поскорее запихнуть под ковер и забыть. Я иду еще дальше и (как это ни прискорбно) утверждаю, что, несмотря на прогресс и прирост информации — или, возможно, из-за прогресса и прироста информации, — будущие события все менее предсказуемы, а человеческая природа и обществоведческие «науки», судя по всему, стараются скрыть от нас этот факт.