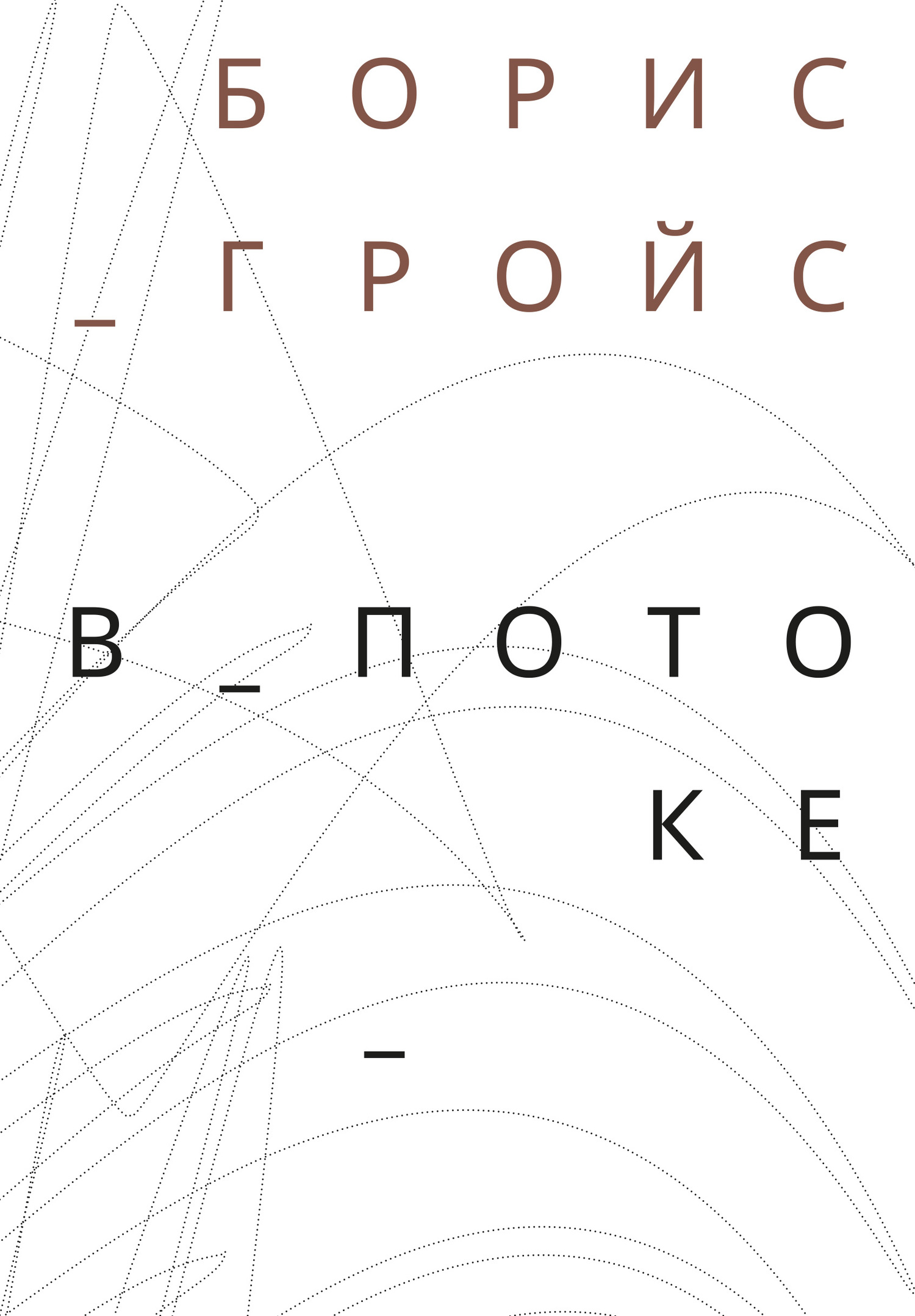драматическому якобы самоочевидная геометрическая конструкция превращается в особый случай более широкого явления – композиции. Вновь торжествует принцип внутренней необходимости: художник не может довольствоваться одними только геометрическими конструкциями, ему необходимо использовать все формы, которые позволят ему выразить и передать определенные соотношения сил и соответствующие им эмоции.
Но особенно элегантно и убедительно Кандинский подрывает притязание авангарда на прямую тематизацию специфических медиа разных искусств, и, в частности, медиума живописи, – притязание, которое после Второй мировой войны было распространено далеко за рамками раннего авангарда (во многом благодаря Клементу Гринбергу, требовавшему от современной картины «плоскостности»). Кандинский показывает, что о холстe как медиуме и o живописной поверхности имеет смысл говорить лишь в том случае, если мыслить эту поверхность как бесконечную или, во всяком случае, простирающуюся неопределенно далеко. Между тем поверхность любой картины всегда имеет определенную, конечную конфигурацию – конкретную форму, обладающую собственной выразительностью, ведь эта форма ограничена двумя горизонтальными и двумя вертикальными прямыми линиями, «лирическими» по своей природе [7]. Соответственно, поверхность картины может иметь либо форму квадрата, либо форму, в которой преобладает одно из измерений – вертикальное или горизонтальное. Любая такая конфигурация обладает специфическим эмоциональным воздействием (в свете этой интерпретации «Черный квадрат» Малевича – то есть квадрат в квадрате – предстает как знак полного молчания и смерти [8]). Эта критика общепринятого понятия медиума и его медиальности глубока и радикальна: медиум становится сообщением только при условии, если этот медиум бесконечен, чего на деле никогда не бывает. А будучи конечным, медиум подчинен конкретной форме.
Kритика претензий на истину со стороны искусства проводилась Кандинским во имя визуальной риторики, понимаемой как наука, призванная исследовать художественные средства, передающие различные аффекты, и точно рассчитать эмоциональное воздействие искусства. Однако научный подход к дискурсивной риторике к тому моменту уже потерпел крах, в силу чего она лишилась своего статуса учебной дисциплины. Так же получилось и с визуальной риторикой. И всё же сегодня художественная теория Кандинского столь же актуальна, как и в то время, когда она была сформулирована, – но не в качестве позитивного знания, а в качестве критического анализа притязаний на истину, с которыми выступает искусство. Кандинский показывает, что любая художественная форма эмоционально заряжена и потому является средством манипуляции. Чистого, автономного, автореферентного и полностью прозрачного искусства не существует. В глубине любого искусства действует темная сила, манипулирующая эмоциями зрителя. Роль же художника состоит в том, чтобы поставить эту власть под свой контроль, что, впрочем, достижимо лишь отчасти. Однако художник в состоянии исследовать действие этой силы и тем самым тематизировать ее как таковую. Это делает Кандинского великим учителем подозрения, чьи уроки не следует забывать.
Перевод с немецкого Андрея Фоменко
Абсолютное искусство Марселя Дюшана
Альфред Стиглиц,
«Фонтан» Марселя Дюшана,
1917
Художественную практику Марселя Дюшана принято – особенно в последние несколько десятков лет – считать одной из главных точек отсчета истории современного искусства или, по крайней мере, истории западного современного искусства. Однако жанр реди-мейда до сих пор чаще всего рассматривают лишь как одну из художественных техник среди множества других. На самом же деле использование реди-мейдов было для Дюшана способом открыть зрителю механизм производства нового как такового – не только в искусстве, но и в культуре в целом. Дюшан намеренно никак не изменял внешний вид тех профанных предметов, которые он использовал, стремясь показать, что культурная валоризация предмета – это процесс, не имеющий ничего общего с художественным преображением этого предмета. Ведь если бы культурно валоризированный предмет можно было по его виду отличить от обычных, повседневных предметов, то возник бы понятный психологический соблазн эту внешнюю разницу и считать причиной разной ценности «предмета искусства» и простых вещей. А если форму предметa никак не менять, то вопрос о механизме переоценки ценностей будет поставлен радикально, как он того и заслуживает.
Первым, кто провозгласил переоценку ценностей принципом, формирующим новизну в культуре во всех ее формах, был Ницше. По Ницше, культура не просто производит новые объекты, а распределяет и перераспределяет ценности. Именно поэтому сам Ницше не создавал новую «философскую систему», а ревалоризировал «профанную» жизнь – дионисийский, эротический импульс и волю к власти – и девалоризировал философское мышление как таковое. Точно так же Дюшан не предлагал какой-то новый способ производства предметов искусства, но ревалоризировал объекты профанной жизни – и девалоризировал традиционное понимание искусства как ремесла. В этом смысле и философский дискурс Ницше, и художественная практика Дюшана являются образцами прорыва к новому – как модернистскому, так и современному – пониманию инновации.
Преимущество техники реди-мейда заключается в том, что оба ценностных уровня – уровень традиционной культуры и уровень профанного мира – ясно продемонстрированы в каждом конкретном произведении. Оба они одновременно присутствуют в реди-мейде, но никогда не смешиваются, не отменяют друг друга и не образуют единства. Их неслиянностью определяется способ создания и восприятия произведения. Реди-мейды обычно принято интерпретировать как знаки тотальной свободы художника, который, как считается, волен помещать в художественный контекст любой предмет и тем самым валоризировать его. Никакие традиционные критерии качества, красоты или выразительности здесь более не применимы. Будет ли нечто в конце концов считаться искусством или не искусством, отныне должно зависеть от свободного решения, которое принимает сам художник или общественные институции, занимающиеся искусством: музеи, частные галереи, художественная критика и академическое искусствознание. Но является ли решение ревалоризировать художественные ценности действительно свободным? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к противоположному случаю. К случаю «нормального» художника, который следует привычным правилам художественного производства.
На первый взгляд, нет ничего проще, чем создавать искусство, которое будет однозначно идентифицироваться как искусство, – в самом деле, такое искусство производится постоянно. Однако оно не считается ценным и достойным стать частью музейной коллекции, не считается оригинальным или инновационным. Напротив, оно считается китчем. Это означает, что решение использовать в художественном контексте профанные вещи – решение не свободное, а вынужденное. Наша культура беспрерывно девалоризирует искусство, которое выглядит как искусство. И валоризирует искусство, не похожее на искусство. Переоценка ценностей – это тот принцип, который регулирует нашу культурную деятельность независимо от наших субъективных решений. Ницше и Дюшан не изобрели этот принцип. Они просто сделали его очевидным, поскольку самым очевидным способом следовали ему.
Эта культурная логика переоценки ценностей была продиктована модернистским, секулярным, постхристианским желанием найти культурное означающее для мира во всей его целостности после смерти Бога. Для Ницше это была воля к власти. Для Дюшана – писсуар, по словам Луизы