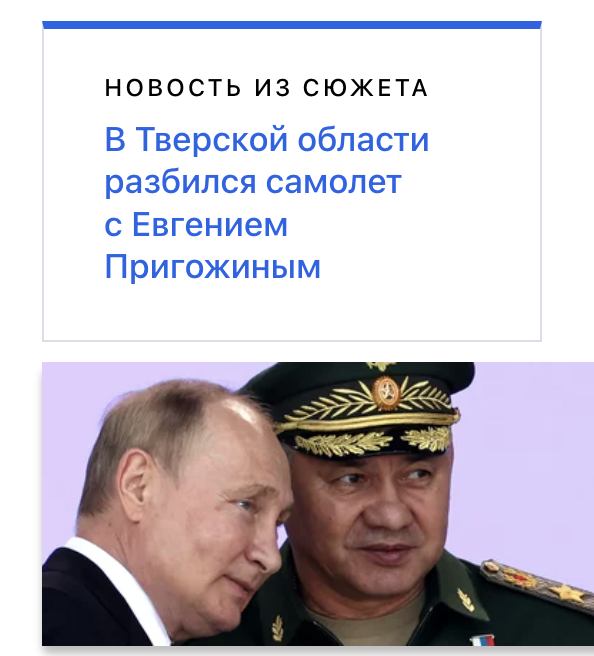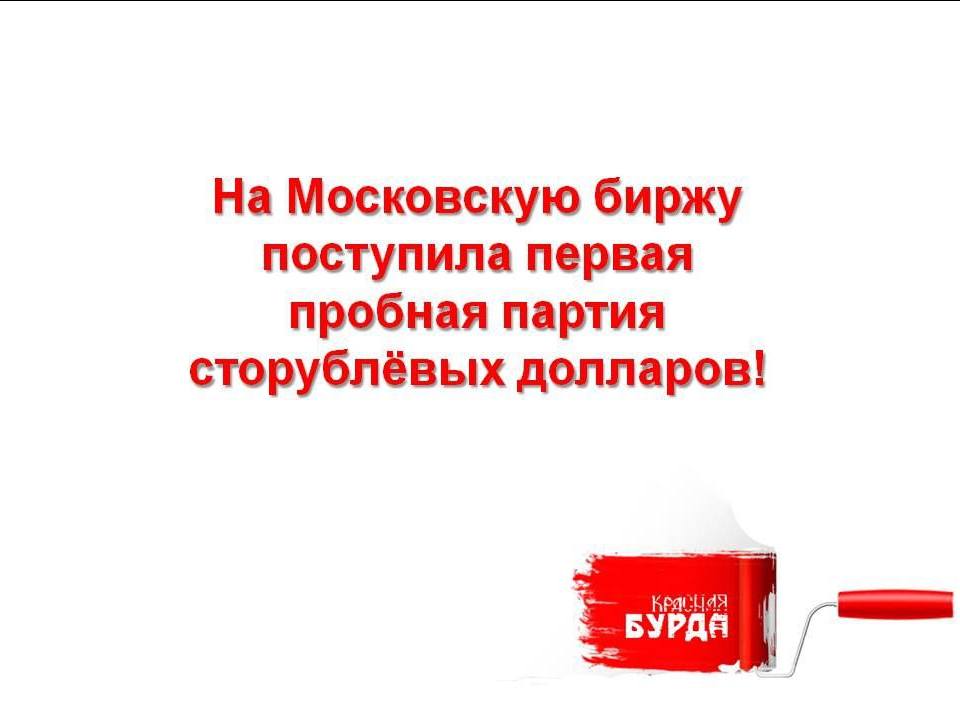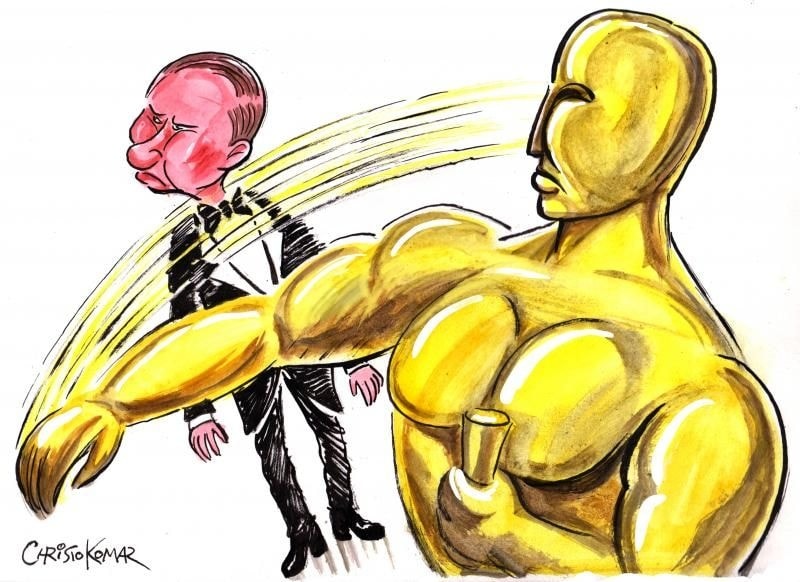договариваться с гражданскими политиками — с теми, которые есть. Часто силовики исходят из того, что эти гражданские политики не должны быть компрометированы связями с прежним режимом, должны пользоваться каким-то международным доверием и доверием общества, быть компетентными управленцами. Дальнейшее хорошо описано в базовой теории переходов к демократии, так называемой транзитологии. Эта теория имеет в России специфическую репутацию, — якобы это такая благостная картина того, что все собираются за одним столом, договариваются между собой, обнимаются и переходят к демократии. Но в действительности демократический транзит — это всегда жесткая борьба, в которой участвуют «ястребы» и «голуби» со стороны правящего режима, и консерваторы и радикалы со стороны гражданских политиков, в какой бы национальной оболочке они ни выступали в контексте транзита. Это политическая борьба. Просто она протекает менее, скажем так, гуманными способами, чем в условиях демократии, и более гуманными способами, чем в условиях нормального авторитаризма. Это всё не завтра будет. Преференции у участников переговорного процесса со стороны властей могут быть самые неожиданные, и они не обязательно будут жесткими. Мы не можем, например, сказать, что они по определению будут исключать всех, кто скомпрометирован связями с прежним режимом. Точно так же мы не можем с уверенностью сказать, что они будут исключать всех, кто на момент транзита будет находиться в заключении по де-юре или де-факто политическим обвинениям. Это уже вопрос тактики. Они будут просто-напросто взвешивать, что выгоднее. Я бы воздержался от того, чтобы называть сейчас конкретные имена, но должен сказать, что этот набор будет широким, будут рассматриваться разные варианты. Нелегкий путь И, конечно, в России всё это будет очень трудно происходить. Даже тот сценарий, который я только что описал — очень затрудненный, и я назвал те причины, по которым он таков. И, естественно, он не единственный. Но какой бы путь ни был избран, в том случае, если Россия будет действительно двигаться к демократии, какие-то фракции правящего класса будут рассматривать переход к демократии как выгодный для себя. А это, в действительности, самая обычная вещь. Более того, можно назвать несколько примеров, когда диктаторы рассматривали переход к демократии как приемлемый для себя. Вне поля внимания транзитологии оказался, например, случай перехода к демократии в Доминиканской Республике в конце 1970-х годов, который вообще обошелся без переговоров, без всяких круглых столов и без пактов. Там диктатор Балагер под давлением Соединенных Штатов — но в значительной степени и потому, что был уверен в собственной непобедимости на любых выборах — декретировал свободные выборы и проиграл их. Потом он какое-то время побыл в оппозиции, снова выиграл выборы уже в демократических условиях и вернулся к власти, но реставрировать диктатуру уже не смог (хотя некоторые поползновения в этом направлении были) и стал, в общем, довольно успешным демократическим президентом. Это редкий случай. Как правило, так не бывает. В мировой практике чаще встречаются случаи, когда люди, находящиеся у власти, рассматривали демократию как возможность мирно, не подвергаясь репрессиям, отойти от власти, уладить, что называется, свои дела, немного позаниматься бизнесом и еще лучше обеспечить свое потомство. А потом, рассуждают они, если мы захотим, то демократия даст нам шанс вернуться. Это рассуждение характерно для гражданских политиков, которые связаны с авторитарными режимами, потому что профессиональные военные во всем мире часто предпочитают возвращаться в казармы, хотя я думаю, что для России возвращение в казармы — это не очень корректное выражение для описания их дальнейшей траектории. Факт состоит в том, что переход к демократии всегда происходит с согласия, а иногда по настоянию каких-то фракций правящего класса, когда они начинают понимать, что это для них наиболее щадящий выход из ситуации, поворачивающейся не в их пользу. Но отсюда вытекает следствие. Если они не считают, что ситуация поворачивается не в их пользу, то они не пойдут на демократизацию, будь то военные или ближайшие соратники диктатора. От добра добра не ищут — это железный закон политики. Для любого автократического правящего класса переход к демократии должен быть, с одной стороны, вынужденной, а с другой стороны — полезной мерой. Если нет констелляции этих двух обстоятельств и соответствующих оценок, то перехода к демократии не будет. А без взаимодействия с правящим классом такого рода переходов не бывает. То, что происходило, скажем, в Восточной Европе в конце 1980-х годов и выглядело как крах коммунистических режимов, во многом было связано с тем давлением, которое оказывал Горбачёв на восточноевропейские режимы. Но в значительной степени это было обусловлено и тем, что правящие круги бывших коммунистических режимов совершенно небезосновательно рассчитывали, что, лишившись власти, они конвертируют ее в собственность. Так, собственно говоря, и произошло. То, что должно случиться, чтобы часть элит почувствовала определенный дискомфорт, уже случилось — случилась специальная военная операция. Она кому-то выгодна, конечно. Но когда рассуждают о том, что довольно значительные слои российского правящего класса извлекают выгоду из специальной военной операции, то отвлекаются от того, что они просто в силу своего социального положения извлекали бы выгоду из чего угодно. Они находятся в таких местах, где, что бы ни происходило, из этого можно извлечь выгоду. Вполне возможно, что та выгода, которую они получали бы без СВО, значительно перекрывала бы то, что они получили за счет специальной военной операции, и они это понимают. Сейчас ситуация такова, что те коврижки, которые они получают в нынешних условиях, у кого-то смягчают боль, а у кого-то этой боли и не было. Но я думаю, что лишь немногие в составе правящего класса — что его политической, что экономической составляющей — могут с уверенностью сказать, что стало лучше. Я полагаю, что если бы они могли говорить с предельной откровенностью, то сказали бы: «Ну да, мы кое-что нагрели на этом, но лучше бы этого не было. Это не настолько плохо, чтобы что-то предпринимать; мы пока выживаем, и мы надеемся, что всё наладится». Когда есть надежда на то, что всё будет налаживаться, и те коврижки, которые они получили, у них останутся и будут приумножены после возвращения к нормальности в международных отношениях, то какой смысл им соглашаться на какие бы то ни было политические изменения? Вне зависимости от того, какой будет Россия после смены режима, важный вопрос состоит в том, захочет ли мир иметь с ней дело. А почему не захотеть? Когда Советский Союз рухнул, то с Россией разговаривали, и Россия возлагала очень большие надежды на то, что с ней будут разговаривать добрее; надо сказать, что с ней и правда