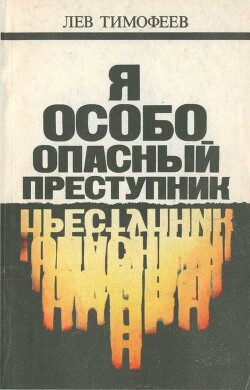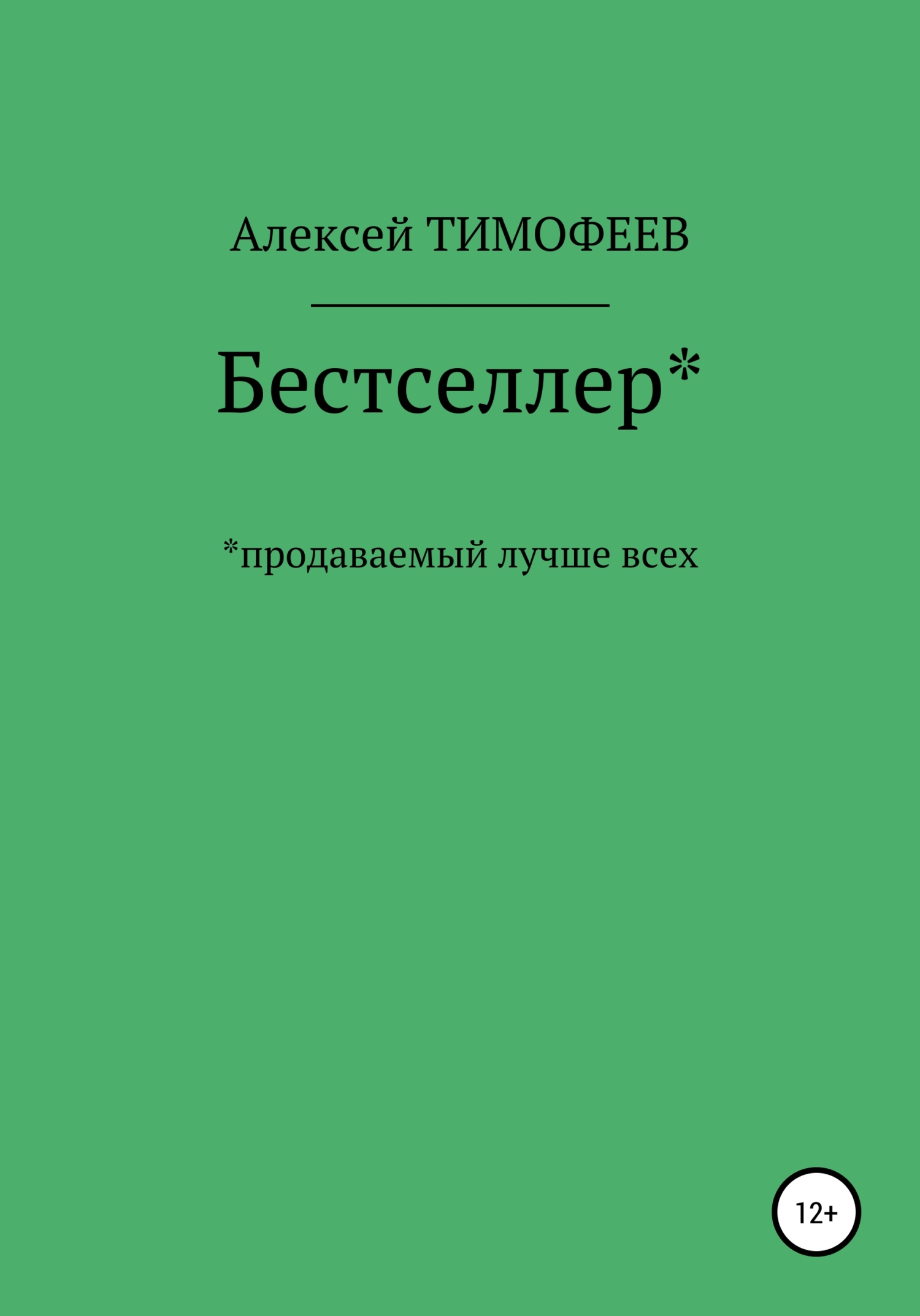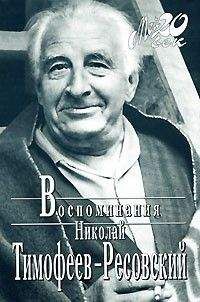Она. А занавески здесь оставим?
Он. Возьмем — пол мыть.
Она. Неужели у нас будут другие занавески на окнах? А ностальгия?
Он. По занавескам?
Она. И по занавескам тоже — я же к ним привыкла…
Он. Сделать тебе еще бутербродик? Я думаю, что отпуск мы проведем на Майами… но зимой — это, говорят, не так дорого и народу немного…
Она. А книги? Все загоним?
Он. Нет, возьмем всю русскую классику и по истории России.
Она. Зачем? Разве мы будем русскими?.. А у Рыжего дети совсем перестали говорить по-русски. Он так и пишет: «Сволочи дети совсем не говорят по-русски…» Неужели и наши? Как это? Наши девочки — и не русские… А мы с тобой?
Он. Можно подумать, что без этой тухлой колбасы ты — уже не русская… Без этой поликлиники, без дашкиной учительницы, без подслушивающего аппарата, который где-то здесь записывает драму нашей жизни… Что это значит быть русским?
Она. Не знаю… Но все-таки это буду уже не я… Я — это моя судьба — ничтожная, несчастная… но моя… моя судьба здесь… Я думала — кто я? Нет, я не русская… Как ни смешно, я — советская… Россия, история — у меня этого ничего нет. За всю жизнь столько вранья в голову позатолкано — в голову, в душу — и мы принимали это вранье, принимали, как все принимали, куда же деваться-то — принимали… Все перепуталось… В какой-то момент в юности вообще казалось, что никогда не разобраться… Но ведь не только же принимали… но и сомневались; жили и жизнью проверяли, что вранье, а что правда… Моя жизнь, опыт моей жизни — это опыт понимания, опыт освобождения от вранья… Это важно! У меня нет другой России, кроме той, в которой я живу. И другой истории у меня нет, кроме собственной жизни. Но эта жизнь у меня есть — опыт прозрения, опыт противостояния вранью… Нет, я — русская. Я русская, наделенная опытом сопротивления вранью, — вот как это называется… Я — баба… Мне это не под силу… Я еле тащу… Но этот опыт у меня есть. Было бы куда спокойнее, если бы мы остановились где-нибудь там, на полпути… друзья на кухне, анекдоты… Жизнь наша дурацкая, несерьезная… Все уже свершилось. Мы оказались одни перед этими бандитами. Ты, я и наши маленькие девочки… Но я-то согласия на это не давала… Я боюсь их, миленький, я боюсь их. Я же понимаю, все правильно. Ты не мог иначе, ты умница… Но девочки-то маленькие… И я никак к этому не привыкну. Да и как к этому привыкнешь? Я не рассказала тебе самых страшных снов. Когда они водят ночью и убивают нас всех. И девочек. Я боялась это рассказывать. И ты знаешь… после этих снов я поняла, что все правильно, что истина именно в том, что все произошло с нами — твои книги, наша жизнь — все правильно… что даже если убьют девочек, то… Вот до какой мысли я доросла. Вот какой опыт. Неужели мы этим не дорожим? Разве нам это легко досталось? А зачем этот опыт там? Там будет другое — будет хорошо одетая пожилая дама, она будет жить в чистом, хорошо обставленном доме, будет пить свой утренний кофе из хорошей посуды, все будет солнечно, опрятно… какая малость! А я со своими мыслями! Где буду я с этой своей жизнью, с этим своим опытом? Все останется здесь…
Он. Что ты говоришь? Тебя страшно слушать. У тебя нет чувства самосохранения… Разве человек не имеет права изменить свою судьбу к лучшему? Разве человек, покидая тюрьму, перестает быть самим собой?
Она. Почему ты решил, что к лучшему? Мы ничего не можем изменить… Неужели все, что мы поняли, все, что следует из нашей несчастной жизни, — это то, что нужно уехать?.. Тогда почему мы не уехали раньше? Почему ты раньше нас не увез? Рыжий тебя звал, а ты что ему ответил? Ты сказал, что хочешь понять себя в этой жизни… И мы поняли себя. И не только себя. Мы эту жизнь поняли. Мы поняли Регину, поняли Скоробогатова… Мы сдвинулись, но никак не можем оторваться от прошлого. Да, мы одиноки здесь, во времени. Каждый сам по себе. Нас никто не слышит… Но мы же не только во времени… Есть же вечное противостояние добра и зла. И в этом вечном противостоянии мы не одиноки… Это надо понять и принять на себя… Вечное… Надо жить в этом Вечном… Разве не это нам надо понять? Разве не эту судьбу принять на себя? Куда же нам ехать? Нам — здесь. До конца. Если, конечно, мы всерьез все это — и детям, и друг другу, и сами себе… Всерьез… Но решиться страшно. Страшно, боже, как страшно! И хочется зацепиться за прошлое или уехать… Может быть, все-таки уехать?
Он. Нет, друг мой, я — не пророк. Это ты пророк. Какие плодотворные идеи — сама-то хоть чувствуешь?
Она. Не говори, это все твои штучки. Ты всегда торопишься и никогда не додумываешь до конца. И опять ничего не понял. А я… Мне это не нужно. Мне бы сидеть где-нибудь тихо, незаметно… согреться бы… растить детей…
Он. Все. Хватит. Если что-то делать, то делать. Скоро полдень, а у нас еще день не начался. Идти за детьми? Я пошел… Могу зайти в школу — что нужно было учительнице? Конец года — что ей понадобилось? Тебе в поликлинику — одевайся и иди, не забудь анализ… Или, может быть, все-таки ремонт? Если да — начинаем… Крутиться надо, крутиться…
Она. Ты иди, иди… Я немножко посижу и тоже пойду потихоньку.
О и. Нет уж… Я уйду, а ты опять ляжешь и укроешься с головой.
Она. Хорошо, мы выйдем вместе, только ты меня не торопи. Можешь пока помыть посуду — горячая вода есть. (Выходит, чтобы одеться.)
Он. Нет уж… Я тебя не тороплю, но вот я сижу и жду… Я жду…
Она появляется в новом платье.
Что за платье? То самое, английское? А это ничего, что так надеваешь? Не подходи к столу, здесь что-то… пятно посадишь…
Она. Ты скажи, нравится?
Он. Да я в этом ничего не понимаю.
Она. А вот Петька своей третьей жене все туалеты сам выбирает. Она моложе его лет на двадцать, и он наряжает ее как куколку… В каких она платьях — обалдеть! Я как-то на улице видела — люди оборачиваются.
Он. Ты не ее встретила. Это была пьеса про Ленина. Это были старушки, которые выгодно помолились на его портрет… Петюнчик… У него есть на что. А у меня — увы… Да, честно говоря, ты мне как-то больше… вообще без платья нравишься…
Она. Замолчи! Надо же, какой чурбан бесчувственный… А как я себя чувствую — тебе наплевать.
Он. Мне кажется, уже пятнышко.
Она. Ничего, отдадим в чистку. Оно хорошо чистится. Он. Не понимаю. Собираешься купить?
Она. Соседка приходила утром, и я сказала, что беру.
Он. Ты что, рехнулась?
Она. С деньгами она может потерпеть до завтра. Он. А что будет завтра?
Она. Не знаю… Отвези шубу в ломбард… ты же сам вчера говорил…
Он. Я говорил? Предположим, я говорил — ну и что? Ты пользуешься моей добротой. Ты вымогаешь у меня, а потом я должен выворачиваться наизнанку, чтобы выкупать все это? Что?!
Она. Посмотри на свои тапочки.
Он. Тапочки?
Она. Ты помнишь, как я купила тебе эти тапочки? Ты устроил гнусный скандал. Ты кричал, что нельзя тратить деньги на лишние вещи, что тебе не нужны тапочки, что ты готов босиком ходить, только бы не тратить деньги попусту… несчастные тапочки…
Он. Ну хорошо, хорошо, оставь это платье.
Она. Да?! Носи его сам. (Снимает платье и, скомкав, бросает ему в лицо.) Пророк поганый…
Он. Успокойся, пожалуйста…
Она. И не лезь ко мне со своими успокоениями.
Он. Ты хотела идти в поликлинику. Анализ в холодильнике.
Она. Анализ нести поздно, и мне не в чем выйти. Он. Куда я должен идти? К маме? В поликлинику? Она. Не знаю, куда хочешь. Холодно-то как… (Надевает шубу и ложится на тахту.)
Он поднимает брошенное платье, расправляет его и осторожно держит на вытянутых руках. Свет меркнет. Темнота. Прожектор высвечивает портреты руководителей партии и правительства.
КОНЕЦ
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
гор. Москва 3 июня 1985 года
Начальник следственной группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в присутствии понятых: Евдокимовой Натальи Николаевны, проживающей по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 9, кв.46, и Ворониной Надежды Николаевны, проживающей по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 124, коріі.1, кв.138, руководствуясь требованиями ст. ст.178 и 179 УПК РСФСР, произвели осмотр журнала «Время и мы» № 79 за 1984 год, поступившего из управления КГБ СССР, о чем в соответствии со ст. 182 УПК РСФСР составили настоящий протокол осмотра.