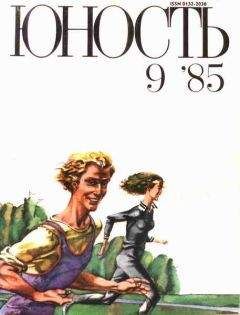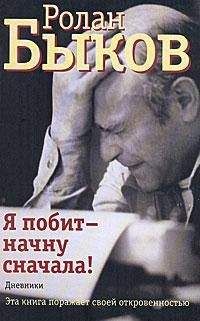Зрители стали хохотать еще громче. Тогда я стал орать благим матом. В зале засмеялись еще пуще, это уже был не смех, а стон… Несмотря на это, я доорал стихотворение до конца, слез со стула и ушел за кулисы. Мне аплодировали. Женщина сказала:
— А теперь надо идти кланяться…
Тут я обиделся окончательно, даже слезы на глазах выступили, и сказал: «Не пойду кланяться!» Я знал, что кланяться — унизительно, что это стыдно. У нас во дворе, когда ругались, часто говорили:
— Что я тебе буду кланяться, что ли!
И поэтому я, готовый заплакать, почти кричал:
— Не пойду кланяться!
И вот тут моя подруга четырехлетняя, имевшая на меня все-таки решающее влияние, своим противным голосом, которого я не выдерживал и готов был сделать все, что угодно, лишь бы она перестала, заныла:
— Ну, иди-и-и-и-и-и-и!.. Тебе же говоря-а-а-а-а-а-а-т!
И я пошел кланяться!.. Но, к сожалению, забыл спросить, как это делается. А когда вышел на сцену, вдруг вспомнил, как кланялась бабушка, когда молилась. Стал я на колени — и давай кланяться.
Зал положительно рухнул от хохота. А я кланяюсь и думаю: «Чего же я не спросил, долго нужно кланяться или нет?» Посмотрю в кулису — они смеются, и женщина, которая записывала, и моя подруга. Думаю: раз смеются — нужно еще кланяться… Зритель уже плачет от смеха, люди не выдерживают, на пол садятся, а я все кланяюсь, и кланяюсь, и кланяюсь… Так я кланялся, пока не стукнулся лбом об пол. Гулко прозвучал удар — все даже ахнули. Тогда я встал на ноги и сказал:
— Все! Хватит! — и ушел со сцены.
После этого я получил прозвище «Ромка-артист». А прозвище для человека в четыре года — это уже должность! Тут никуда не денешься, артист — и все! Я вырос в большой московской коммунальной квартире, такой большой, что сейчас самому даже не верится, что когда-то такие квартиры были. У нас было 43 (!) комнаты при одной кухне. Как говорится: есть что вспомнить! И эти 43 комнаты стали моими 43 театрами, потому что не было дня, чтобы не открылась какая-нибудь из дверей и кто-то не говорил бы «по-свойски»:
— Ну-ка, артист, заходи! Давай! Чего-нибудь изобрази, расскажи, спляши, спой!..
И я пел, плясал, рассказывал. Меня гладили по голове, говорили, что я молодец, иногда за работу давали даже поесть. Вот так, можно сказать, и по сей день. Так что я рано стал «профессионалом». Но если всерьез, то слово «артист», которое с того времени прилипло ко мне, стало проклятием всего моего детства и даже отрочества, оно преследовало меня повсюду, ранило меня, настигало неожиданно, иногда превращая все радости детства в ад. Когда жаловались на меня маме, обязательно говорили:
— Твой арти-и-ист-то! — и почему-то всегда прибавляли: — С погорелого театра!
Когда я встречался со сверстниками в глухих углах нашего двора, то всегда, еще до выяснения отношений, слышал:
— Ну ты, артист!
Душа леденела, столько это слово вмещало презрения и ненависти, и я бросался на обидчиков.
А уж когда подрос, как досадно было в ответ на искренность услышать от сверстниц полное игривого девичьего недоверия:
— Ой-ой-ой!.. Ну ты и артист!..
Родственники приезжали, дяди, тети, что-нибудь рассказываешь, доказываешь, даже плачешь, а в ответ над тобой смеются:
— Вылитый артист! Вылитый! Ох, артист!..
Это было мукой… Я был «чучелом»! Если бы я тогда знал, что пройдут годы, и я пойму, что, может быть, я никогда не бываю так искренен, как именно в тот момент, когда я артист. Прикрытый ролью, как маской на маскараде, я могу пойти на такую искренность, какая, может быть, и непозволительна в жизни. Я могу рассказать все самое сокровенное о своих любимых, и никто не скажет мне, что это нескромно. Я могу с беспощадностью все поведать о своем враге, и никто не упрекнет меня в том, что я неблагороден.
Однако думаю, что если бы тогда, в детстве, я так не настрадался от этого слова «артист», я бы, может быть, никогда так остро не чувствовал внутренней необходимости полного доверия ко мне зрителя. И сегодня я даже думаю, что без той детской муки не пришел бы ко мне фильм «Чучело» с его взрослой болью и детской правдой…
С годами я понял, что желание «быть правдивым» — одно из благих пожеланий, которые отнюдь не всегда исполняется. Быть правдивым учатся. Это тяжкий труд, непрерывное напряжение души. Иногда это бой с собственной тенью. Иногда — пустые хлопоты. Это борьба: то с пошлостью, то с незнанием, но чаще всего с самонадеянностью опыта.
Первой задачей нашего съемочного коллектива было найти главную героиню. Я не впервые принимался за фильм с участием детей-актеров и начал поиски вполне уверенно.
Героиня была хорошо выписана в повести, и мы понимали, что найти существо «некрасивое, но прекрасное» в кино очень сложно. Это образ более литературный, нежели кинематографический: на экране, если человек некрасив, трудно убедить зрителя в том, что он прекрасен. Хотя — бывает все. «А Джульетта Мазина?» — у кинематографистов на все есть расхожее мнение. В нем-то чаще всего и гибель…
Когда меня спрашивают, есть ли у меня свой секрет поисков детей-актеров, я невольно чувствую себя обманщиком. Я ищу, пока не найду, — вот и весь секрет. Поиск детей-исполнителей — это особый способ изучения жизни, времени, это проверка себя, верности своих представлений. Это изучение динамики детства, его тенденций и перспектив, оно похоже на определение координат идущего в океане корабля.
В подборе детей-исполнителей, может быть, самое важное — удержаться от желания самому придумывать детство, его некий особый мир. Легенды и мифы о детстве — самые распространенные из сегодняшних предрассудков нашей школы, кинематографа и вообще мира взрослых. Мы апеллируем к нашему жизненному опыту, забывая о том, как стремительно меняется вся наша жизнь. К тому же воспоминания — не вполне действительность: только факты и события остаются из прошлого, все оценки— из настоящего. То, над чем мы в детстве плачем, в зрелые годы нас уже только смешит. «Золотым времячком» детство становится на расстоянии прожитых лет: мы забываем, сколь оно драматично, сложно, сколько таит в себе обид и разочарований.
«У нас тоже были бойкоты, но они происходили в гораздо более позднем возрасте — классе в 8-м, 9-м!» — заметил мне однажды человек, рождения начала века. Мне пришлось ответить ему: «Я снимал фильм как раз о том, как все изменилось с тех пор, как вы учились в восьмом классе». Мы становимся взрослыми именно тогда, когда отказываемся от детства, когда меняем отношение к его проблемам. Так рождается во взрослом мире деформированное представление о реальности детства, мы снисходительны к нему, но на деле упрощаем его.
Кто он, ребенок? Что значит в духовном смысле это непростое слово «несовершеннолетний»? Что в нем несовершенно? Тело или душа? Или он все же вполне человек с самыми настоящими человеческими проблемами, со своей особой правдой?
Наши поиски формулы детского кино иногда напоминают мне поиски философского камня средневековыми алхимиками. Но даже алхимики в тайных письмах римскому папе предлагали рецепты смесей, которые надо было помещать в чрево женщины, «ибо только живое рождает живое». Теперь золото ищут геологи, а добывают старатели. Слово-то какое замечательное — «старатели»: стараться надо, чтобы найти золото! Мы не сможем «выдумать» золото человеческой души, мы сможем отыскать его только в реальной жизни.
Когда я работал в Театре юного зрителя, актрисы травести, исполнявшие роль детей, своей основной актерской задачей чаще всего считали изображение возраста. Дети в их исполнении были звонкоголосыми бодрячками, они должны были «сверкать глазенками», поддергивать штанишки и заламывать кепочки. Всем казалось, что это замечательно: взрослые нахваливали, хотя юные зрители иногда с недоумением узнавали в сценических детях «тетенек». Считалось, что у актрис-травести всего одна проблема — молодость. А так: позвонче крикнет, порезвее прыгнет — вот и ребенок.
Именно в эти годы поднялась звезда Лидии Князевой, ныне народной артистки СССР, которая буквально на моих глазах совершила одну из самых принципиальных театральных революций — нахождение кардинально нового подхода к решению образа ребенка. От природы она обладала великолепными, даже уникальными данными: была прекрасно сложена и сочетала в себе самые широкие по актерскому диапазону возможности — и трагические, и героические, и лирические, и даже комедийные. Князева с первых же ролей отбросила голое изображение возраста как задачу не вполне художественную. Она стала в каждой роли ребенка искать сложный внутренний мир, индивидуальный, неповторимый характер, истоки будущей человеческой личности. Раскрывать драматизм детства и его вечную надежду.
Принципиально новый подход к образу ребенка был понят не сразу. Об актрисе писали, что исполнение детей ей не удается, что она играет каких-то «старичков и старушек». Но очень скоро победа Князевой становится очевидной, успех абсолютным. — Подъем в театре разворачивался и проходил 8 основном в 50-е годы, а несколько позже он начался и в кино. Уже в 60-е годы подход к образу ребенка, как к задаче вполне художественной, полностью победил в. практике «Юности» — объединения «детских фильмов на киностудии «Мосфильм»: в фильме «Друг мой — Колька», «Звонят, откройте дверь!», «Внимание, черепаха!» и др. С закрытием на «Мосфильме» объединения «Юность» этот процесс несколько остановился, и снова в фильмах о детях и для детей незаметно стало процветать «изображение возраста» и все, что называется традицией «пупсикового обаяния». На экране замелькали все те же бодрячки времен старых травести, только теперь их изображали уже сами дети. Объемный образ детства превращался в плоский плакатик, рождался выдуманный взрослыми «детский мир», свойственный якобы исключительно детству, полный душевный комфорт, что вело к тотальному упрощению всех проблем роста и становления личности.