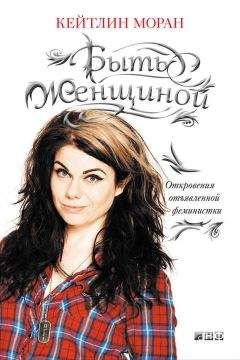– Именно это обычно и случается с мамочками, которые желают домашние роды, – с неким удовлетворением говорит она, раздвигая мне ноги и прикрепляя датчик – для контроля частоты сердечных сокращений – к головке моего ребенка. Бедный ребенок! Бедный ребенок! Мне так жаль! Не о таком первом прикосновении для него я мечтала!
– В конце концов их привозят сюда и делают кесарево.
Наконец-то передо мной человек, который меня раскусил. Эта сука видит во мне того, кем я являюсь, – женщину, не способную родить.
С ночи субботы до утра понедельника государственная служба здравоохранения обстоятельно и со знанием дела проводит все медицинские манипуляции, призванные помочь несостоявшимся женщинам. У меня не отошли воды – мне прокалывают пузырь. У меня прекратились схватки – их стимулируют с помощью маточного кольца. У меня тугая шейка матки – ее болезненно разрывают, как только схватки возвращаются. Мне кажется, что меня изнутри нарезают кубиками, прежде чем подвергнуть медленной казни.
Конечно, они помогают мне. Это их обязанность – делать за меня все то, что должно естественно происходить в женском организме, как в природе происходит выпадение осадков или смена времени года. Отхождение вод, начало схваток – все это мое тело, как музыкальная шкатулка, должно было проделать само при помощи скрытых внутренних ресурсов.
Но из-за моей некомпетентности понадобилась вся эта возня с введением трубок и полной палатой обеспокоенных врачей, проигрывающих каждую ноту вручную – решительно дергая струны. У моих родов не было никакого ритма. Каждое биение было вызвано извне.
Неудивительно, что через два дня этого скверного танца ребенок начал, попросту говоря, умирать. На мониторе ее сердцебиение звучало как крошечный игрушечный барабан. И было слышно, что с каждым сокращением барабан стучит слабее. Я знаю, что будет дальше – окситоцин внутривенно. Капельница. Я читала о капельницах. Каждая книга о родах учит вас ее бояться. Когда у вас естественные схватки, то тело все делает в том темпе и с той интенсивностью, с которой вы можете справиться. Но капельница не играет с вами в поддавки. Она знает только одну скорость: быстро. Это жестокая машина – метроном для тех, кто отклоняется от ритма. Она безотказно заставляет вас тужиться каждую минуту. Это стимулятор ритма для матки, как туфли в фильме «Красные туфельки», заставляющие вас танцевать пока вы не упадете замертво.
Боль приобрела новое качество, и я за один час перешла от агностицизма к неистовой вере. Небо вдруг наполнилось присутствием Бога, приготовившего для меня библейские страдания. В перерывах между схватками я словно ловила языком капли, падающие из крана в горящем доме, – секунда облегчения, но уже в следующую пекло за спиной властно напоминает о себе, выжигая глотку, стены вспучиваются пузырями, и нигде вокруг не видно ни двери, ни окна. Казалось, единственный способ спастись – это вывернуться наизнанку, как спрут, и вылезти на свободу через волшебную дверь в собственном скелете.
Но я была не спрутом, а плотью и болью, прикованной к койке проводами монитора, и моя мать никогда не рассказывала мне, как выворачиваться наизнанку.
В конце концов я не была волшебником и не могла заставить обезьян вылетать из моей задницы, поэтому провела в этом жутком месте три дня и три ночи – врачам пришлось привязать меня и разрезать. Лиззи не выскользнула из меня в чудесном акте сокровенной магии и звездном мерцании – доктор Джонатан де Роса отодвинул мои почки в сторону и вытащил ее из меня за ноги вверх тормашками, как измазанного дерьмом кролика.
Конечно, я не рассказала вам и половины. Я не рассказала вам о плачущем Пите, дерьме и рвоте, бьющей на метр до самой стены, о том, как я, задыхаясь, стонала «рот!», моля о глотке анестезирующего газа, поскольку забыла все другие слова. Не рассказала, как мучилась из-за мысли, что Лиззи повредили лицо, или с ужасом представляла себе, как и десять лет спустя правая нога у меня будет неподвижна и холодна. Как и про четыре неудачные попытки эпидуральной анестезии, оставившие каждая по истерзанному, в гематомах позвонку, откуда сочилась жидкость, обжигавшая меня, как горячий протухший уксус. И самое главное – шок от мысли, что рождение Лиззи сильно покалечит меня, превратит в животное с ногами, пойманными в ловушку обездвиженности, и я буду умолять врачей взять нож и выпустить меня на свободу.
Весь следующий год я каждый понедельник в 7:48 утра смотрела на часы, вспоминала роды, с трепетом произносила слова благодарности, что все закончилось, и поражалась тому, что мы обе выжили.
Лиззи родилась в 8:32 утра – но именно в 7:48 мне ввели обезболивающее, и боль наконец исчезла.
Итак, утро понедельника. Я лежу на узкой больничной кровати, вокруг и во мне царят неожиданные тишина и покой, физраствор капает в вену, муж на стуле, дочь в прозрачной кроватке, никаких цветов на прикроватной тумбочке; прошло еще так мало времени, и все очень ново. Зрачки у меня расширены от морфина. Потом, рассматривая фотографии, я нахожу, что отлично выгляжу. Я словно загадочная героиня из «Малхолланд-драйв», только почему-то с ребенком.
Пит выглядит хреново. Тогда я этого не заметила, потому что, когда ушла боль, все – даже застарелые бурые пятна от крови и уродские лампы дневного света – казалось мне красивым. Но фотография, которую сделали Кэз и Уина, явившиеся минут через десять, запечатлела человека с заплаканными красными глазами, бледно-зеленого от нервного истощения.
В глазах у него стоят слезы, он может смотреть только на меня, как будто я вот-вот умру, и он так и не сумеет объяснить мне, как ему меня не хватает.
– Пит, – говорю я, протягивая к нему руку. В руку воткнута игла капельницы. Питу явно страшно к ней прикоснуться.
– Все, что они делали, причиняло тебе боль, – сказал он и заплакал. Ужасным плачем, с расплывшимся ртом, с нитками слюны между губами. – Я ничего не мог сделать. Как только казалось, что становится лучше, они делали так, что тебе становилось хуже. Когда они воткнули тебе эту штуку в спину (первая из четырех неудачных попыток эпидуральной анестезии), то сказали, что боль прекратится, но что-то у них не получилось, ты кричала и обмочилась. Они бежали по холлу с каталкой. Ты издавала такие ужасные звуки.
Я смотрю в стеклянную кювету и постукиваю по стенке, словно это аквариум с золотыми рыбками. Лиззи на секунду открывает глаза и смотрит на меня, нахмурив брови. Ее личико на фоне больничной пеленки кажется красным. Она по-прежнему похожа на какой-то внутренний орган. В глазах нет белого цвета – только черный. Просто огромные зрачки – два больших отверстия в ее обезьяньей головке, ведущие прямо к ее обезьяньему мозгу. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее.
Мы с Питом смотрим друг на друга. Мы оба знаем, что хотим улыбнуться, но не можем.
Мы переводим взгляды на ребенка.
Боль преображает. Мы так устроены, чтобы она была самым доходчивым из всех возможных уроков. После рождения первого ребенка я узнала две вещи.
1. При моей вопиющей дремучести посетить всего два занятия для будущих мам и просто ждать смерти было не лучшим способом подготовиться к родам. И этим все сказано.
2. После того как вы перенесли такую боль, вся последующая жизнь становится относительно легкой. Даже самый ужасный опыт не бывает напрасным.
Знаете, что вы получаете вместе с 27 швами на животе или разрывами промежности? Перспективы. Целую кучу перспектив. Я говорю это без тени сарказма. Это сущая правда: 24-часовая доза дикой, невыносимой боли помогает правильно ранжировать многие другие раздражающие и печальные стороны современной жизни.
Такая боль избавляет вас от многолетних залежей эмоционального сухостоя. Сейчас вы удручены низким уровнем сервиса в госучреждениях, невкусными сэндвичами или видом своих ног? Вы об этом и думать забудете, когда вас снова протащит через пылающие врата ада 48-часовых родов! В этом отношении роды далеко превосходят прозак и психотерапию. В достаточно молодом возрасте вы получаете ярчайшее в жизни и оглушительно простое откровение: единственная вещь, которая действительноимеет значение в этом проклятом сумасшедшем запутанном мире, – застряло ли нечто размером с кошку у вас в шейке матки, и любой день, когда там нетэтой застрявшей кошки, по определению является идеальным во всех отношениях.
Когда человек с гигантскими руками подходит к вам с какими-то клещами размером со щипцы для барбекю, вы думаете о перспективе. – «Да-да, – говорите вы себе, – теперь я вижу определенную перспективу». Сомневаюсь, что когда-либо снова испытаю раздражение из-за того, что Norvich Union меняет название на Aviva.