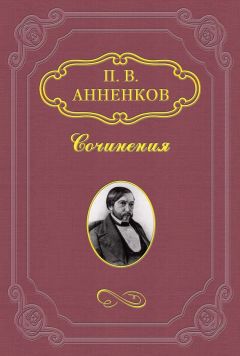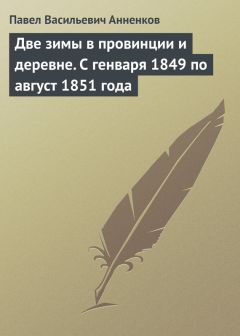На такую уж почву ставились все вопросы.
Говорить ли о парламентских прениях? Уже с половины прошлого месяца произошло совершенное разъединение между партиями, с одной стороны, и Собранием, с другой, и шли они совершенно в разные стороны, чувствуя сами, что с каждым днем более и более расходятся. [Все решения Палаты наперед казались временными и скоропреходящими даже самим членам ее: они уже считались недействительными, и она могла декретировать, что угодно, не изменив ни на волос планов партий.] Париж и Собрание жили двумя разными жизнями, и несомненно было, что для прекращения этой двойственности, при которой не может быть правления, надо, чтоб которая-нибудь из сторон задушила другую. В заседании 12 июля депутат Севестр сказал весьма замечательные слова, которые к удивлению были приняты со смехом: «Les rassemblements qui se forment dans les rues ne sont que les bras de la conspiration; la tête qui la dirige et lui donne le mot d'ordre est dans les clubs. Je dis que nous perdons notre temps. (Hilarité générale')» [302] .
A он был прав. В это же заседание министр Дюклерк представил свой исправленный бюджет 1848 г. и открыл тот секрет, над которым так много смеялись династические журналы и по которому не только покрывались все издержки 1848 г., но в руках Пра<вительст>ва обреталась экстраординарная сумма в 555 и даже в 580 миллионов, и бюджет мог быть, таким образом, достаточен до. 21 декабря 1849 г. Чудный секрет этот был весьма прост: он состоял, во-первых, в выкупе всех железных дорог посредством облигаций (этим разрешался вопрос о нац<иональных> мастерских и государственных работах, но запутывался вопрос о частной собственности и святости контрактов), в займе в 150 мил. у банка, в-третьих, в продаже государственных лесов на 86 мил., в выпуске новых бумаг на 100 мил., несмотря на страшное падение уже существующих, и тому подобное. Рапорт давал еще предчувствовать, что не все [еще] ресурсы государства истощены, и таким образом молча предвещал впоследствии три любимые меры учителя Дюклерка – Гарнье-Пажеса: именно, прогрессивную подать, пошлину на доходы и наследство и подать на закладные. Как приятная перспектива оставалась еще ввиду членов Собрания выкуп и взятие в казну всех общественных застрахований. Этот чисто революционный и отчасти социалистический бюджет, в чем по удивительному противоречию никак не хотели согласиться родоначальники его, был противен Палате, может быть, более, чем чисто социальные попытки: он вел их без сопротивления к тому же результату. Мы знаем уже, что Палата по собственному положению не могла свергнуть Экзекутивную комиссию и министров ее: она старалась только мешать им. Так [и здесь] сделала она и теперь. Она не отвергла проекта Дюклерка, но депутат Бино от имени комитета финансов опровергал и пользу выкупа железных дорог, и справедливость этой меры. Фаллу и Леон Фоше, эти заклятые враги национальных мастерских и [стало быть] министра Трела, удвоили желчные нападки на последнего и утверждали, что работники национальных мастерских не распускаются Правительством с намерением заставить Палату принять закон о выкупе железных дорог, выкупе, который сам по себе есть, во-первых, ложь, а во-вторых, бесчестное дело. Но проект все лежал на очереди до тех пор, пока в Париже не раздались пушки… Тут первым делом Палаты было опрокинуть ненавистный бюджет Дюклерка, и новый министр Гудшо. из всей фантасмагории его цифр оставил только одну: заем в банке, это делалось и прежде. Когда потом тот же самый Гудшо хотел предложить некоторые меры, действительно, справедливые, как, например, увеличение пошлины с наследства и завещаний, он уже встретил сопротивление. Вскоре уже сам Гудшо был сменен, как слишком [республиканский] революционный министр финансов, и особенно за одну меру: он вымучил у Палаты закон об обмене облигаций 3 процентного долга на новые по биржевому курсу в 80 фр. Облегчение великое владетелям, но биржевый курс на другой день был уже только 78 – и снова гнев [мещанства] богатого мещанства, который до того преследовал бедного банкира Гудшо, что он вышел в отставку и преемник его Труве-Шевель первым долгом поставил заплатить владельцам недостающую сумму. И необычайные уступки еще не кончились. Со второго дня одержанной в июне победы правительственной и мещанской партиями видно было, что последняя не остановится до тех пор, пока все не возвратится к старой рутине, не изгладятся все самые законные начинания февральской революции и не задернется наглухо занавеса на беспокойный блеск будущего, ею открытый. Затем, во вторник, 13 июня, Жюль Фавр, назначенный докладчиком от 7 бюро, где разбиралось дело о [допущении] выборе Л. Наполеона, разыграл в Палате старую скандальную роль человека, который в публичном деле хотел выместить личную обиду, ему нанесенную. – Хитро и ловко, задев мимоходом Л.-Роллена за [дело] процесс Луи Блана, где он, Ж. Фавр, так отличился, оратор заключил, что Пра<вительст>во, согласясь на допущение двух членов фамилии Бонапарта в мае и на декрет, уничтожающий их изгнание, не имеет никакого права теперь входить с законом об устранении одного Бонапарта. Он советовал Палате утвердить выбор последнего, и та, действительно, его утвердила [с условием отобрать у него], представив ему впоследствии [оправдать] доказать свою французскую национальность. Ж. Фавр торжествовал. Комиссии нанесен был удар, и она уже хотела просить изъяснения, как ей понимать уничтожение предложенной ею меры, когда все дело поправил сам Л. Наполеон. Он вдруг ни с того ни с чего написал дерзкое письмо Палате, в котором: ни слова не упомянул о Республике, а, напротив, извещал диктаторски:: «Je n'ai pas recherché l'honneur d'être représentant du peuple, parce que je savais les soupçons injurieux dont j'était l'objet. Je recherche encore moins le pouvoir; si le peuple m'imposait des devoirs, je saurais les remplir» [303] .
Неописуемое волнение охватило всю Палату особливо, когда вдруг из трибуны какой-то Блум {273} выкинул бумажку со словами: «Si vous lisez pas les remerciements (его же Бонапарта, приложенные к письму) aux électeurs je vous déclare traître à la patrie» [304] .
Ж<юль> Ф<авр> сознался, что он зашел далеко во вчерашней защите Наполеона, и все Собрание с энтузиазмом и негодованием разошлось при неистовых криках: «vive la république», с намерением не положа никакого ответа или решения на странную цидулю Луи Наполеона. Этот ничтожный человек сам испугался в Лондоне эффекту, произведенному письмом его, которое и читано было на следующий день Президентом и гласило уже: «M. le Président j'étais fier d'avoir été représentant à Paris et dans trois autres départements… je désire l'ordre et le maintien d'une république sage, grande, intelligente et puisque involontairement je favorise le désordre, je dépose, non sans de vifs regrets, ma démission entre vos mains» [305] .
Так кончилось это дело, показавшее еще раз ничтожество претендента, впрочем, нисколько не убедившее партии, а главное, совершающуюся путаницу во всех головах, не знающих, чего хотеть и как начать.
После этого основной идеей всех последующих прений было предчувствие близкой, неминуемой, приближающейся беды. Еще в самый день получения первого письма Наполеона К. Тома сказал с кафедры: «Si mes renseignements sont exacts, c'est une bataille que vous aurez demain» [306] .
Он ошибся 9-ю днями. В это же заседание произнес свою первую действенную речь новый депутат Пьер Леру, который должен был впоследствии составить мучение Палаты своими философическими и психологическими трактатами: основание этой речи было то же чувство нестерпимого положения современного общества. Замечательна была смелость, с которой П. Леру, основываясь на неизвестных данных, объявил, что во Франции только 1 миллион человек заказчиков и консематоров всех произведений, а остальные 35 миллионов, по тирании капитала, только их работники и не потребляют произведений, самими ими выработанных. Очевидно, что тут есть насильственный вывод, потому что если бы, действительно, 35 т. служили одному, то само потребление обще им всем, ибо потребление всегда совершает круговорот, и без этого и тот один не мог бы существовать. При нынешнем состоянии промышленности работник только не может выкупить поденной платой всего, что он произвел (и это уже большое зло), но если бы он ничего не мог выкупить, как это утверждал П<ьер> Л<еру>, тогда индустрия кончается и начинается политическая колония. Положение антрепренера или заказчика только тем и несправедливо, что он поглощает у работника ту необходимую часть дохода, без которой последний никогда не может войти в обладание тем, что он породил. Следующая часть речи П<ьера> Л<еру>, где он говорил об обращении рук к земледелию и об земледельческих эмиграциях в Африку, которые туда должны перенести, может быть, и саму историю Европы, – весьма замечательна, но замечательнее всего – это слова, так верно обозначающие страдание настоящей минуты: «Дайте исток нашему мануфактурному народонаселению и не запирайте наглухо Франции, как улей с пчелами, где в мучениях смерти труженицы растерзают сами себя!» Пафос всех речей, несколько иногда замечательных, постоянно был один – предчувствие неизбежной, роковой драмы… Гудшо, которого Палата слушала два дня кряду, объявил народные мастерские моральной порчей работника, открыл, между прочим, что в первое время их основания на них рассчитывали, как на готовую армию против династической попытки Луи Филиппа и его приверженцев, и, наконец, уведомил, что в феврале он вышел в отставку тотчас, как пошли заседания Люксембурга и мастерские начали пускать корни; пособия должны были давать, по его мнению, не работникам, а антрепренерам, питающим работников. Как помочь настоящей беде, он не видел, а произнес только эти горькие слова, чрезвычайно сильно подействовавшие на Палату: «Поверьте, господа, что кожа, отделяющая нас от пропасти, чрезвычайно тонка и с каждым днем делается тоньше». Сам фразистый Гюго умолял с кафедры народных вожатых произнести слова мира и успокоения и сдержать грозу в руке, если еще можно: «l'avenir est aux travailleurs, il ne faut qu'un peu de patience et de fraternité, et il serait terrible que cette vérité n'étant pas comprise, la France, ce premier navire des nations, sombrât en vue du port qui s'ouvre dans la lumière» [307] .