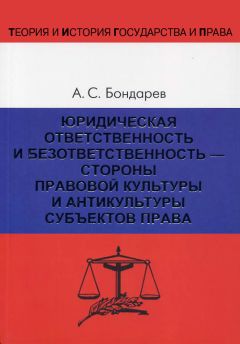Ознакомительная версия.
Однако для Бодрийяра подобная перемена обернулась скорее выигрышем, а не проигрышем, поскольку в этом контексте его рассуждения принимали форму ретро, никогда не выходящего из моды. Если говорить о философии в целом, то благодаря Бодрийяру она все еще сохраняла статус роскошного предмета потребления, однако эта роскошь, напротив, мыслилась под знаком некоторой старомодности. Чем дальше, тем больше она напоминала драгоценную безделушку из прабабушкиного гардероба: чудом сохранившуюся и совершенно не подходящую ко всему «что сейчас носят».
3. В сущности, любой текст Бодрийяра глубоко и по-руссоист-ски моралистичен: в нем неизменно ощущается ностальгия по реальности, которая мыслится под знаком утраты, предательски демонстрирует свою недоступность, несбыточность. Куда ни ткнись, в мире Бодрийяра не найдешь сущностей, однако, не найдя сущностей, не обнаружишь и сущего – сплошной «кофе без кофеина». Кажется, на протяжении последних сорока лет Бодрийяр только и занимался тем, что фиксировал наступление конца всего, что определяло собой человеческое существование. В этом не было ни какого-то «подрывного» умысла, ни сверххитрой философской «задачи» – просто так получалось.
Кредо марксизма заключалось в создании философии, которая изменила бы мир, однако к семидесятым годам XX века существовало уже такое количество противоречивых программ изменения мира, что становилось ясно: даже самая обоснованная преобразовательная теория способна лишь на указание ложных альтернатив. В этом и состоит ее вклад в изменение мира: подробно и достоверно описать то, что именно благодаря этому описанию уже никогда не состоится. Уже в «Системе вещей» (1968) Бодрийяр описал кризис идеологии инноваций, в «Обществе потребления» (1970) указал на пределы производственной модели существования, в тексте «К критике политической экономии знака» (1972) фактически преодолел последнее «непревзойденное учение» – марксизм.
Одним из первых осознавший подобную неизбежность, Бодрийяр берется за анализ феноменов, гипостазированных в рамках определенной теории. Чем выше их статус, тем более неопределенным он является. В итоге так и не ясно, что перед нами: виртуозная объяснительная схема в духе веберовского «идеального типа» или абстракция, которая попирает в правах «Саму Реальность». Двойственность этих феноменов делает их фантомами, фантомность оборачивается болью: слишком высокой оказывается плата за готовность исчерпывающим образом детерминировать собой любой аспект существования.
Именно в этом ключе рассматривает Бодрийяр структуралистскую антропологию, базирующуюся на вере в абсолютную реальность «символического» («Символический обмен и смерть», 1986); идеологию евроцентризма, в рамках которой Старый Свет предстает этаким заповедником реальности («Америка», 1986); этическую теорию, благодушно полагающуюся на то, что добро воплощает более совершенную реальность, нежели зло («Прозрачность зла», 1990); маскулинную теорию пола, уповающую на то, что различие между полами естественно, а потому и абсолютно реально («О соблазне», 1979), и т. д. С тех же позиций Бодрийяр предлагает «забыть Фуко» (с его концепцией власти как сущего), переосмыслить лингвистическую теорию Фердинанда де Соссюра (в чьем представлении знаки хотя и произвольны по отношению к объектам, но все же не расстаются с ними окончательно), наконец, отвергнуть Карла Маркса с его концепцией производства (служащей инстанцией, определяющей границы реальности человеческого существования).
Философия Бодрийяра воплощает, таким образом, апофеоз критического сознания. И одновременно заводит его в тупик.
4. Кто-то по наивности может решить, будто причина в том, что после Бодрийяра и критиковать-то больше нечего. Однако для подобных констатации нет никаких оснований. Бодрийяр не достиг предела исчезновения объектов критики, он пришел к тому, что критическое мышление если не создает критикуемое, то по крайней мере «онтологизирует» его. Придает ему большую реальность, чем оно в состоянии обладать. «Гиперреалъностъ».
Некоторые считали реальностью то, что порождало представления и давало возможность отличить истину от иллюзии; другие полагали, что по-настоящему реально только само представление, отводящее миру роль подмостков; наконец, третьи исходили из того, что реально только непредставимое, но его невозможно выразить. После Бодрийяра непредставимое перестало соотноситься с областью трансцендентного – не став доступным, оно приобрело зримость в виртуальной реальности интерфейса.
Кто заинтересован в производстве этих «гиперреальных» объектов, выведенных на авансцену покойным философом? Те, для кого нормой существования является хроническая нехватка реальности, те, для кого привычен смыслодефицит, эпидемия которого охватила наши общества. Бодрийяр сам называет носителей этого «мы» – речь идет о массах. Именно они образуют нечто вроде консорциума, занятого пожиранием реальности. Но одновременно именно они и есть основные потребители критических теорий. Благодаря этим теориям массы обретают статус если не наивысшей, то по крайней мере «последней» реальности.
Современная критическая теория не просто открывает все новые стороны десубстанциализации жизни. Она постулирует: реальным является только то, что приводит к эскалации реального, к превосхождению всех прежних его границ и ранжиров. Чтобы быть собой, реальность должна быть больше, чем реальность. Она должна переполнять себя, превосходить свои пределы, выходить из собственных берегов. К таким формам самосохранения реальность обращается сплошь и рядом.
Десубстанциализация жизни – вовсе не результат коварства или недомыслия «постмодернистов», как утверждают посредственные адепты академизма. Она является условием воспроизводства последней в эпоху, когда любые экзистенциальные проблемы становятся техническими. Техника при этом начинает играть роль образцовой онтологии воцарившейся Современности, поставившей на бесконечную череду собственных мутаций.
* * *
Смерть Бодрийяра является особым свидетельством: завершается все, что могло завершиться. Распространяется это и на саму смерть, которая, теряя статус жизненной трагедии, уходит в прошлое как пережиток. Вот только стоит ли вообще жить, если из жизни исчезнут все «пережитки»? Не в этом ли состоит смысл новой игры, разворачивающейся прямо у нас на глазах? И не в этом ли заключается причина того, что мы так часто ощущаем несправедливость, не имея ни единого шанса выразить, в чем все-таки она проявляется.
Бодрийяр уже никогда не ответит на эти вопросы. Ответ остается за нами.
Gold october, или сценарий братства
Сейчас много пишут о трагедиях, порожденных Великой Октябрьской социалистической революцией. Много пишут и о трагедии самой революции. Однако основная проблема Великого Октября заключается в том, что народ оказался не достоин восстания, совершенного в 1917 году. Выражающий предельный накал воли к равенству и самоуправлению, Великий Октябрь воплощал в себе посыл невиданной, ни с чем по масштабам не сравнимой демократизации. В нем заключалось обетование самого справедливого в истории социального порядка, перед которым меркнут полузабытый детский сон, даже очертания райского сада.
Все предшествующие новоевропейские революции (включая Великую французскую) учреждали и реучреждали правительственные институты, то есть сводились, по сути, к модернизации исполнительной власти. Все предшествующие революции открывали все новые институциональные возможности для того, чтобы реформировать монопольное право говорить от имени кого-то. Октябрьская революция, напротив, обратилась к сотворению этого «кого-то» – великого анонима, именуемого народом.
Подобная нацеленность отчетливо прочитывается в той сугубо служебной роли, которую первоначально взяло на себя советское правительство «народных комиссаров». Структурой, позволяющей народу быть народом, стали Советы. Они воплотили в себе институционально оформленные идеалы прямой демократии, непосредственного коммунитарного народовластия. Идеалы, берущие начало и в древнегреческой системе политической жеребьевки, и во «фрактальной» организованности номадических орд, и в катакомбной сплоченности первых христиан, и в стихийной решимости всевозможных бунтовщиков.
Любая «буржуазная» революция создает народ задним числом как побочный продукт трансформации правительственных органов. Народ воплощает в этом случае уходящая в бесконечность вереница подданных, «мал мала меньше». Каждый из них отсылает к другому такому же, однако все они вместе не более чем «атомы», ничтожно малые не столько даже для «общего дела», сколько для любого социального действия. Они пригодны лишь для того, чтобы раствориться в ком-то, кто будет править, влиять и учреждать от их имени: «Мы есмь народ…» Они бесплотны до полной неразличимости и бесплодны в силу тотального взаимного безразличия. Их существование подобно существованию мотыльков-однодневок, они рождаются для того, чтобы наделить Большого Другого плотью и кровью своего Я.
Ознакомительная версия.