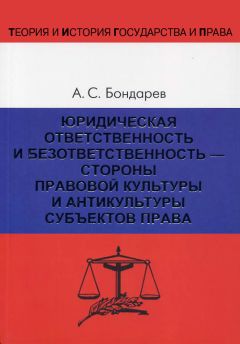Ознакомительная версия.
Великий Октябрь избавил народ от статуса фикции, существующей на острие пера интеллигента-народолюбца. Синонимом народа стали Советы, которые учреждали не новую государственность, а новое общество, не новую элиту, а нового человека. Меньше всего Советы воплощали новую форму политического волеизъявления или новое издание социального контракта между представляющими и представителями. Советская власть возникла как двойственное политико-экономическое образование: она, с одной стороны, легитимировала преодоление эксплуатации, а с другой – подталкивала этот процесс.
Перестать быть эксплуатируемым не значит просто эмансипироваться, «освободиться». В соответствии с неопровиденциалистскими рассуждениями Карла Маркса об истории и предыстории это значит обрести наконец подлинное существование. Попросту начать жить. Избавление от эксплуатации есть способ отвоевать себе право на то, чтобы обладать реальностью.
Одновременно это способ избавиться от многовековой истории эксплуатации: начав эксплуатировать саму историю, подчинить себе ее энергии и стихии. История должна преобразиться в проект, в этом смысл марксистской идеологии «планомерности» и ленинской идеи «общества-фабрики». Ставка на эксплуатацию истории предполагает избавление от гнета экономической власти, однако предполагает и невиданную со времен Античности политизацию самой природы человека.
Перефразируя Вальтера Беньямина, отметим, что политизация природы человека стала «коммунистическим» ответом на западную биологизацию политики. Не так уж важно, в какой форме осуществляется последняя: в форме континентальной расовой доктрины или англосаксонской доктрины «белого человека», в форме антигуманной евгеники или жалостливой биоэтики, в форме милитаризованного германского нацизма или наукообразных теорий генетического неравенства, наконец, в форме постлиберальной биополитики или неоязыческого культа людей-цветов. Важно то, что биологизация политики означает кризис перепроизводства человеческого в человеке.
Ничто так не девальвирует человека, как гуманистическая эскалация всего «слишком человеческого», порождением и причиной которой являются разнообразные изводы теории «общечеловеческих ценностей». Ничто не оборачивается таким скорым прижизненным изгниванием человеческой сущности, как выведение этой сущности из обстоятельств и условностей повседневного быта. Ничто не способствует так воцарению метафизики человеческой смерти, как ограничение горизонтов человека системой координат комфортного существования (с точки зрения которого наивысшим из доступных нам проявлений справедливости выступает неограниченное товарное потребление).
Политизация природы человека препятствует этой инфляции человеческого в человеке.
Взаимосвязь усиления экономической власти с инфляцией человеческих качеств установил еще Карл Маркс: брезжущее перед глазами радикальное увеличение нормы прибыли может заставить пойти на любые жертвы. Однако Маркс не до конца отдавал себе отчет в том, насколько такое вот увеличение нормы прибыли ведет к добровольным жертвам (выражающимся, с одной стороны, в политическом абсентеизме, а с другой – в этическом признании существующего порядка как самого справедливого из возможных). Большевики во главе с Владимиром Лениным исходили из того, что политизация выступает панацеей не только против нравственной деградации и культурного «обессмысливания», но и против оскудения самой человеческой экзистенции, которое пострашнее любых других форм бедности.
Выход, предложенный большевиками скорее всего единственно возможный в этой ситуации: развязать гражданскую войну.
Не будем торопиться обвинять большевиков в звероподобии и кровожадности. Подлинная гражданская война разворачивается не между политическими силами и социальными группами, не между красными и белыми, она разворачивается внутри отдельного человека. В конфликт вступают не отдельные составляющие его «заведомо» множественной идентичности, а все наличествующие в нем элементы «единичного» и «множественного», «индивидуального» и «коллективного», «частного» и «общего». Эти элементы не просто присутствуют в человеке, они воплощены им, интериоризованы, причем до такой степени, что из этой констелляции или «взвеси» и образуется сама человеческая «суть».
Большевики поставили на общее («мировая революция»), на коллективное («массы»), на множественное («Советы»). Поставили – и одержали победу.
Сложности начались, когда не оправдался большевистский расчет на демиургическое сотворение народа из ничего. Пребывая на протяжении столетий в качестве нароста или придатка, невесть откуда взявшегося на государственном теле, народ держал в крепостной зависимости не что-нибудь, а свое Я (или, говоря более высокопарно, свою душу). Любая ставка на общее, коллективное и множественное оборачивалась при учете столь неоднозначного исторического опыта ставкой против уникального, собственно, против индивидуальности как таковой.
Демократизация характеризуется одной важной особенностью: она сопровождается более или менее широкомасштабным распределением прерогатив бывшего суверена среди всех членов общества. Каждый хотя бы в какой-то степени становится «сувереном самому себе». Однако сувереном невозможно стать, отдав свое Я кому-то другому. Суверенность – это всегда практика обращения с собственным Я, с которым можно делать очень разные вещи, нельзя только одно – им пренебрегать. Коллективный опыт обращения со своим Я связан с существованием политической нации и монументальной системой ее институтов, для простоты называемой «национальным государством».
Такого опыта у поколения русских образца 1917 года просто не было. Результат не заставил себя ждать: вместо огромного числа практик индивидуализации ранняя советская демократия породила лишь оскудение духа, измельчание характеров. Собственно говоря, на свет выпростался коллективный шариков. Он и не мог быть никаким другим, кроме как «коллективным»: индивидуальность заменялась у него особым пафосом, который брал начало в трех источниках: лакейской сопричастности («Тоже мне господа, и мы можем!»), варварском самодовольстве победителя («Чай вы теперь не баре!»), непролазном невежестве («Не знали, не знаем и знать не хотим!»).
Этот пафос хорошо сочетался с пролеткультовским призывом «Сжечь Рафаэля, разрушить искусства цветы», который выражал насаждаемое пренебрежение к культуре как совокупности способов и проявлений индивидуализации. Вместо духовной культуры предлагался комплекс БГТО, вместо самосовершенствования – борьба с внешним, а еще большее «внутренним» врагом.[45] Наконец, вместо свободы – трудовой подъем, энтузиазм (наивысшей точкой которого являлся оргиастический административный восторг). Единственной формой индивидуализации при этом оказалась индивидуализация в рамках массы.
Я массы, конечно, лучше, чем закрепощенное Я, которое только ленивый не называл рабским. Однако масса приобретает суверенность только в моменты, требующие сверхъестественного напряжения – в моменты революций и войн. Суверенность массы носит мобилизационный характер; кончается мобилизация, и от этой суверенности не остается и следа, она растаивает, как сугроб на солнце. В мирные периоды эта суверенность поддерживается холодной гражданской войной: все люди связаны узами братства, но это братство держится на том, что каждый представитель этой непомерно разросшейся семьи может написать на своего «брата» донос.
Справедливость, выступающая проявлением «братских отношений», обретает социальное воплощение в рамках трансформации философского идеала братства в практику существования братства как коммьюнити (наподобие монашеского ордена или тайной политической организации). Формой социальности, изобретенной большевиками, является братство, преодолевшее свою «корпоративную природу» и разросшееся до размеров всего общества в целом.
«Масса» в ее большевистском понимании и есть сообщество братьев, порвавшее со своей «мещанской» инертностью, изничтожившее привычки местничества, обрушившее алтари и очаги цеховой корпоративности.
Возгонка братских отношений тождественна беспрерывным эманациям солидарности, которая переполняет самое себя, выходит из собственных берегов. Субстанция солидаризма парадоксальна по своей сути: она всегда больше самой себя и больше любых акциденций, которые ею порождаются. Любой социализм апеллирует к этой принципиальной безграничности солидаристских отношений, основными формами которых являются любовь и дружба (которые в предельных случаях предполагают тотальное растворение субъектов друг в друге).
Выражаясь на ином языке, можно сказать, что большевики противопоставили систематическому перепроизводству человеческого не менее систематическое перепроизводство социального (к которому фактически сводилась сама возможность справедливого порядка в его социалистической версии). Кризис этого перепроизводства хорошо знаком нам по многочисленным издержкам коммунального быта: от плевка в кастрюле соседкиного супа до творческого гения кляузника-графомана за ближайшей дверью.[46]
Ознакомительная версия.