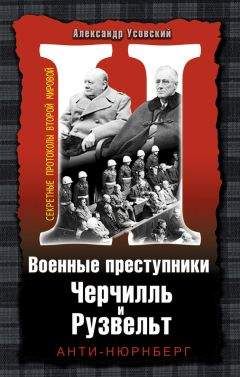ДОКТОР ШТАММЕР: Расскажите, какова была тогда ваша позиция по вопросу о наступлении на Россию.
ГЕРИНГ: Я сам вначале был застигнут врасплох этим намерением фюрера и попросил его разрешить мне высказать свое мнение через несколько часов… Вечером я сказал ему: «Настоятельно, убедительно прошу вас, не начинайте войну с Россией, хотя бы в ближайшее время».
Но в ходе допроса советские обвинители, поочередно предъявляя одно доказательство за другим, срывают с Геринга маску миролюбца.
Этот «второй наци» Германии, по-своему перекраивавший карту Европы, диктующий судьбы целым народам, в то же время был первостатейным жуликом и плутом. Он стал богатейшим человеком нацистской Германии. Его замок Каринхолле сделался огромным хранилищем художественных сокровищ, свозившихся сюда из оккупированных стран. А мировой концерн «Герман Геринг-верке», филиалы которого были организованы в дни оккупации в Донбассе и на Украине, превратился в одну из могущественнейших мировых монополий.
При всем том Геринг не брезговал и взятками. Привлекают, например, к суду папиросного короля Филиппа Реентема за утаивание доходов от налогообложения. Тот преподносит Герингу «маленький сувенир» в семь миллионов марок — и дело закрыто. Устанавливается, что «второй наци» помогал некоторым еврейским банкирам и промышленникам бежать за границу, но… при одном условии: чтобы имущество и капиталы они оставляли ему, Герингу.
Художественные коллекции Геринга в Каринхолле росли с захватом каждой оккупированной страны. Геринг ставил себе задачу создать картинную галерею не меньше, чем Лувр или Эрмитаж, и очень последовательно обогащал ее, вывозя лучшие полотна из частных собраний. На суде фигурировала телеграмма, посланная оккупационным чиновником из Парижа: «Специальный поезд рейхсмаршала Геринга, состоящий из двадцати пяти вагонов, нагруженный ценными произведениями искусств, отправлен по назначению». В письме к подсудимому Розенбергу Геринг хвалится: «Теперь, Альфред, у меня самое лучшее собрание художественных ценностей если и не во всей Европе, то по крайней мере в Германии».
Таким предстал перед судом «второй наци» Германии Герман Вильгельм Геринг — рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами, уполномоченный по пятилетнему плану, организатор и руководитель эса и т. д. и т. п., ближайший Гитлеру человек.
И, что особенно характерно, он, один из организаторов национал-социалистической партии, в ходе суда ни разу, подчеркиваю, ни разу не выступил в защиту национал-социализма, своих идеалов и, наконец, своего фюрера, который считал его верным другом. Как хотелось бы мне сейчас попасть в Болгарию, увидеть Георгия Димитрова и рассказать ему, как вел себя организатор Лейпцигского процесса, сам оказавшись на скамье подсудимых. Ни слова в защиту своих идей и убеждений, ни малейшей попытки отстаивать их. Одно стремление — вывернуться, уйти от ответа, свалить все на отсутствующие три «г» — Гитлера, Геббельса, Гиммлера.
Вот кто правил бы сейчас Европой, если бы Красная Армия в неимоверно трудной борьбе не положила бы предел захватам гитлеровцев.
13. Мой герой выруливает на старт
Как это ни странно, но именно допрос Германа Геринга сыграл положительную роль в моих литературных делах, никакого отношения к нему, Герингу, не имеющих. Я уже писал, что вынужденные слова «второго наци» Германии о «загадочном» советском человеке, которого не понимала и не понимает буржуазная Европа, о человеке, который громил и разгромил разбойничьи армии Кейтеля, воздушный флот Геринга, который топил корабли Редера и в финале войны водрузил свое знамя на крыше цитадели нацизма, что эти вынужденные слова заставили меня месяц назад сесть за книгу об одном из таких людей, старшем лейтенанте Алексее Мересьеве. Оттуда, из зала суда, где развертывается ужасающая повесть нацистских злодеяний, спешил я к себе в каморку, к повести о настоящем человеке, советском человеке, находя в ней забвение от всего того, что мы видим и слышим изо дня в день на процессе.
Разбитый, разгромленный, тонущий мир фашизма, главари которого держат ответ перед Судом Народов, таким образом сталкивается с простым, честным, светлым миром советского парня, и парень этот неизменно одерживает маленькую победу. Пишется хорошо, легко. Николай Жуков — старый друг и болельщик этой книги, который недавно вместо «здравствуй» спрашивал у меня, пишу ли я, теперь уже — хочет он того или не хочет — слушает каждое утро мой «творческий отчет» о жизненных перипетиях летчика за минувшее утро и подбадривает неизменно:
— Валяй, валяй дальше…
Страница за страницей будто сами вылетают из-под пера. У меня нет ни конспекта, ни плана, только вот эта тетрадь с давно сделанными репортерскими записями Я не знаю, как воевал этот парень после давней нашей встречи под Орлом. Не знаю — жив ли он или сложил голову в сражении с асами Германа Геринга из дивизии Гихтгофен. Только тетрадка с надписью «Дневник полета 3-й эскадрильи», где в августовскую, пахнущую малиной ночь я записал рассказ этого парня. Только она и является моим путеводителем по его жизни.
Пишу так усидчиво, что мои друзья, нюрнбергские воробьи, уже привыкли с рассветом видеть в окне склоненную к столу человеческую фигуру и, вероятно, стали принимать меня за некий странный, неодушевленный предмет. Насытившись всяческой чепухой, которую я с вечера насыпаю на подоконник, они беззастенчиво влезают в комнату, прыгают по письменному столу, ведя между собой крикливые беседы, вероятно, на немецком языке.
И вот сегодня я вспугнул их, встав из-за стола раньше срока. На вопрос Жукова, сделанный в умывальной, я ответил:
— Кончил. — Ну-у!
— Вот, брат, как у нас…
Я был страшно горд и как-то еще не освоился с тем, что книга, столько лет вызревавшая в голове, наконец написана. Было даже почему-то грустно расставаться с ней. На суде договорился с машинисткой, живущей недалеко от нас во флигеле фаберовского дворца, что буду после заседания ходить к ней диктовать. Начну уже с завтрашнего дня. Сейчас вот с волнением жду этого момента, ибо, как известно, именно машинистки в литературном мире считаются самыми внимательными читателями и самыми беспристрастными критиками. И как приятно — взять со стола довольно толстую папку исписанных листов, взвесить ее на руке и не без гордости сказать: «А ведь все это написано за девятнадцать дней».
По логике вещей сейчас бы и самая пора лечь и выспаться. Ведь за последние недели, что там говорить, здорово измотался, одичал. Хожу нестриженый, говорят, даже похудел. И это, наверное, так, ибо ворот гимнастерки стал ощутительно широк. Да где же, разве заснешь! Хочется что-то делать…
Поехал во Дворец юстиции, дал телеграмму жене, отрапортовал, что обещанную повесть кончил, перепечатаю и ко дню рождения доставлю ей. И еще дал телеграмму журналу «Октябрь», где я напечатал перед войной свою первую книгу, редактору Ф. И. Панферову, человеку, поддержавшему меня на первых, не очень твердых шагах в литературе. В телеграмме написал: «Окончил книгу неясного для меня жанра. Размер двенадцать печатных листов. Герой — летчик, фигура реальная, ориентировочное название „Повесть о настоящем человеке“. Срок присылки — 1 апреля. Низко кланяюсь». Зачем написал эту вторую телеграмму, сам не знаю. Ведь глупо занимать в журнале очередь, не предлагая ничего, не зная, как будет принято написанное. Но мучает нетерпение.
А вернувшись в пресс-кемп, не пошел в нашу вавилонскую башню, хотя сегодня там идет какой-то супербоевик, как раз с участием той самой актрисы, с которой я сидел рядом в день своего появления на процессе. Пошел в парк. Здесь все уже просохло, густо зеленеет трава, деревья распустились, и по оврагу, на дне которого звенит ручей, клубятся во тьме белые туманы цветущей черемухи.
Бродил по дорожкам, вдыхая буйные, бражные весенние ароматы и думал о своем герое, этом смуглом русском парне, который отныне поселился в моей книге. Мог бы такой оказаться в воздушных армадах Геринга? Храбрецов там хватало. Курт тоже неплохо повоевал — железные кресты они фронтовикам зря не давали. И горящий самолет за линию фронта к своим перетянул, и из огня с парашютом прыгал. Но ведь сам же он признается, что двигал им страх упасть в расположение наших войск, желание выжить, оказаться у своих. А вот смог бы тот же Курт, славный, в общем-то, парень, вот так стремиться вернуться в авиацию, прилагать для этого нечеловеческие усилия. И все только для того, чтобы продолжать воевать и снова и снова подвергаться смертельному риску? Тут же, как бы сам собою выскакивал вопрос — а во имя чего? Для кого?
И вспомнилась мне беседа, давняя беседа за Днепром, в дни разгрома гитлеровских дивизии у Корсунь-Шевченковской на случайном ночлеге у танкистов маршала П. А. Ротмистрова. Ночевали мы в школе, где помещался штаб танковой бригады, и соседом моим по соломенному ложу оказался коренастый подполковник с большим, медного цвета лицом, перечеркнутым через бровь и нос жирным багряным шрамом. Говорили мы тогда о боевых делах и обсуждали — удастся все-таки сильной немецкой группировке хотя бы частично пробиться из окружающего ее кольца. Разные тут были мнения. Подполковник твердо утверждал: не сумеют. Управление у них удалось расстроить.