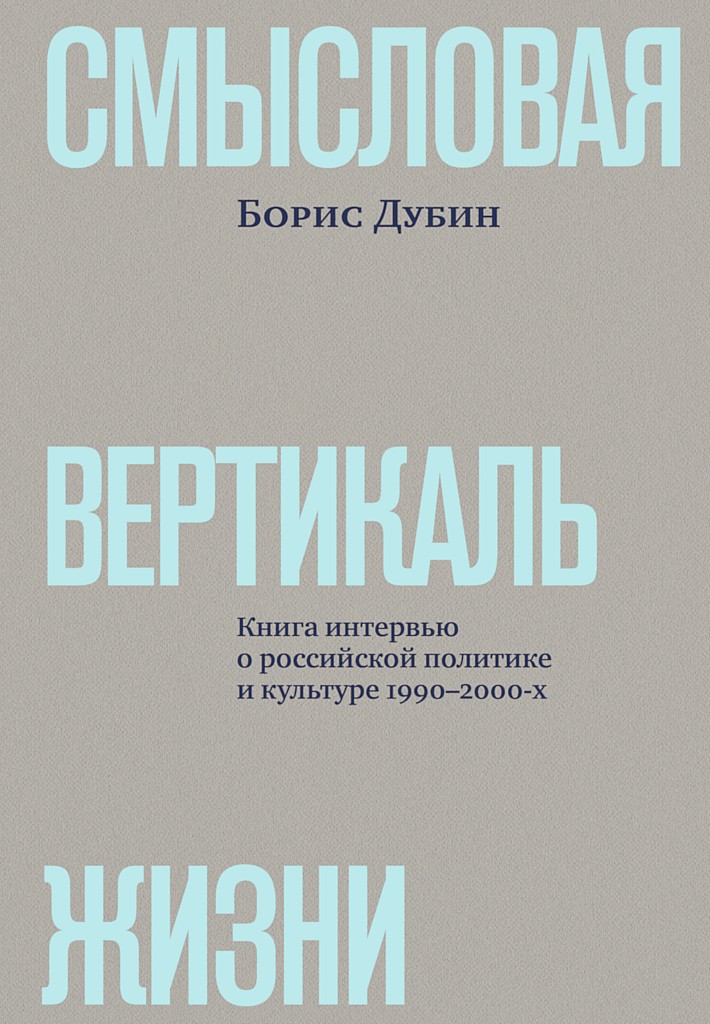9-е мая, которое мы празднуем, собственно говоря, каждый год, и юбилейная дата 70-летия начала Великой Отечественной войны, которая тоже, безусловно, будет поводом для многочисленных выступлений, фильмов, книг, стихов, песен и всего, что вокруг этого. Я думаю, что разговор у нас сегодня будет вполне актуальный.
А начну я с самого примитивного и банального. Борис Владимирович, скажите, пожалуйста когда мы говорим «память о войне» (или о Победе), мы имеем в виду коллективную память, наверное. Что такое коллективная память? Это механическое сложение, позволю себе неграмотное слово, памятей (во множественном числе)? Или это некий, опять же извините за такое сравнение, коктейль, из которого, из этих компонентов, рождается некий продукт другой, в который входит все то, что существует вокруг?
Ну, тут, вообще говоря, на большую передачу эта тема и, может быть, даже не на одну. Ну конечно, это метафора, это наш способ говорить о каких-то важных для нас вещах. Ну, кто сегодня может помнить войну и может помнить Победу? Мы понимаем, что число ветеранов год от года, увы, сокращается, и сегодня причисляют себя к людям поколения Великой Отечественной войны, ну, 1,5–2 % населения России. Но! У половины нынешнего населения, как говорят сами люди, был убит кто-то из близких на этой войне, у трети — ранен. Плюс еще у кого-то попал в лагерь на этой почве, ну и так далее, и так далее. Короче говоря, получается, что почти что нет такой семьи, где бы не было потерь от войны, где бы не было памяти, помимо общей и той, которую создают СМИ и так далее, еще и семейной, может быть даже личной.
Значит, чтó мы, я думаю, чаще всего имеем в виду, когда говорим о памяти о войне, памяти о Победе? Значит, есть такое событие в прошлом среди других событий в прошлом, и память — это, в конце концов, наш способ вызывать это событие с тем, чтобы напомнить о его значимости всем нам, кому-то и т. д. Как это делается? Вообще говоря, на этом напоминании, на этом вызывании строятся целые большие социальные институты, системы. Средства массовой коммуникации, школа, искусство, литература и так далее — они делают память. И в этом смысле для каждой индивидуальной, каждой семейной памяти задают какую-то более широкую рамку. Но и вместе с тем, конечно, неизбежно нивелируют то индивидуальное, семейное, что знает о войне каждый человек.
А скажите, мы, ну, вот это коллективное «мы», какое-нибудь общество, да? Мы вызываем вот это прошлое? Мы к нему апеллируем? Или власть к нему апеллирует в неких своих интересах?
Ну, разные силы, и разные институции, и разные системы могут использовать эти значения по собственному усмотрению, если им позволяют их ресурсы, средства, их положение в обществе, наличие у них каналов массовой информации и т. д. У меня же нет канала массовой информации.
Вот вам три целых — даже Сетевизор.
Да. Телевизионного канала у меня нет, я не могу вызывать в памяти большой аудитории. Соответственно, у меня нет возможности влиять или почти нет возможности влиять на школьную программу, ну и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, когда мы говорим «память» в единственном числе, мы на самом деле имеем всегда много памятей, скорее всего борьбу памятей, в собственных ли интересах, в интересах ли большинства, в интересах правды, истины, в интересах истории и так далее, и так далее. Здесь соединяются интересы разных групп населения, разных систем общества с их представлениями о том, чтó значимо, в каком смысле значимо, с какой степенью настоятельности значимо. Кто-то же говорит о том, что мы не позволим искажать нашу память, нашу историю, что-то нам навязывать.
Память и история в моем представлении — все-таки несколько разные вещи.
Конечно-конечно.
Потому что история — это все-таки память. Ну, известные какие-то афоризмы есть на этот счет, но память, выраженная через мемуары, скажем, всегда, очень субъективна, люди забывают. Причем даже не преднамеренно — они просто элементарно забывают, у них происходят некие аберрации памяти, и они просто одни и те же события могут вам, свидетели одних и тех же событий, могут вам описать их совершенно по-разному.
В конечном счете память и, кстати, история, и писаная, и неписаная — это не только борьба за память, но это борьба с забвением, и в каком-то смысле она неотрывна и неотделима от забвения. Мы неизбежно что-то забываем, мы боимся что-то забыть, мы хотим что-то забыть. И из этого проистекают разные стратегии работы с прошлым, работы с историей, работы с коллективным наследием, традицией. Можно по-разному это называть и каждый раз в другой перспективе откроются, казалось бы, одни и те же события. Когда человек говорит: «О, вот здесь я воевал, вот тут меня ранило» — это один уровень памяти. А когда с большой высоты — первая колонна, вторая колонна…
Ну да, стратегия, да. Понимаете, в чем дело? Я сейчас рискну сказать одну вещь (я понимаю, что сейчас на меня обрушится, наверное, волна негодования наших слушателей), — но смотрите, не мы одни пережили эту войну. И я даже позволю себе сравнить масштаб трагедии, пережитой нашей страной, с масштабом трагедии, пережитой Германией, независимо от того, что там ужасный режим был — у нас не намного лучше, но дело не в этом, да? Мы — победители, а те проиграли, все понятно. Но для народа, для нации это была трагедия.
Еще бы.
Страшная трагедия.
Конечно.
Но они ее переживают по-другому. В силу поражения или в силу другой культуры, если хотите?
Ну, все-таки, конечно, в силу поражения, во-первых. Все-таки оказаться в ситуации страны, государства, само имя которого стыдно произносить, которое приравнено к ругательству, «немец» почти значит «гитлеровец», а «гитлеровец» значит «убийца, насильник» и т. д. Конечно, для огромного народа в центре Европы с мощнейшими культурными традициями оказаться в такой роли было чрезвычайно тяжело, ну, не говоря о тяготах самой войны.
Но плюс к этому была воля держав-победительниц. И в этом смысле там тоже шла своя борьба Америки с Россией, ну и диктовка памяти, и в том числе выстраивание отношений с прошлым, с историей — оно шло не совсем добровольно. Немцы долгое время не очень хотели вспоминать то, что с ними происходило.
Они и сейчас не хотят.
Конечно. И не только те, которые чувствовали, что они совершили преступление или испытывали чувство вины, а просто люди, которым было тяжело, у которых убили близких, которые пережили тяжелейший шок нескольких лет войны,