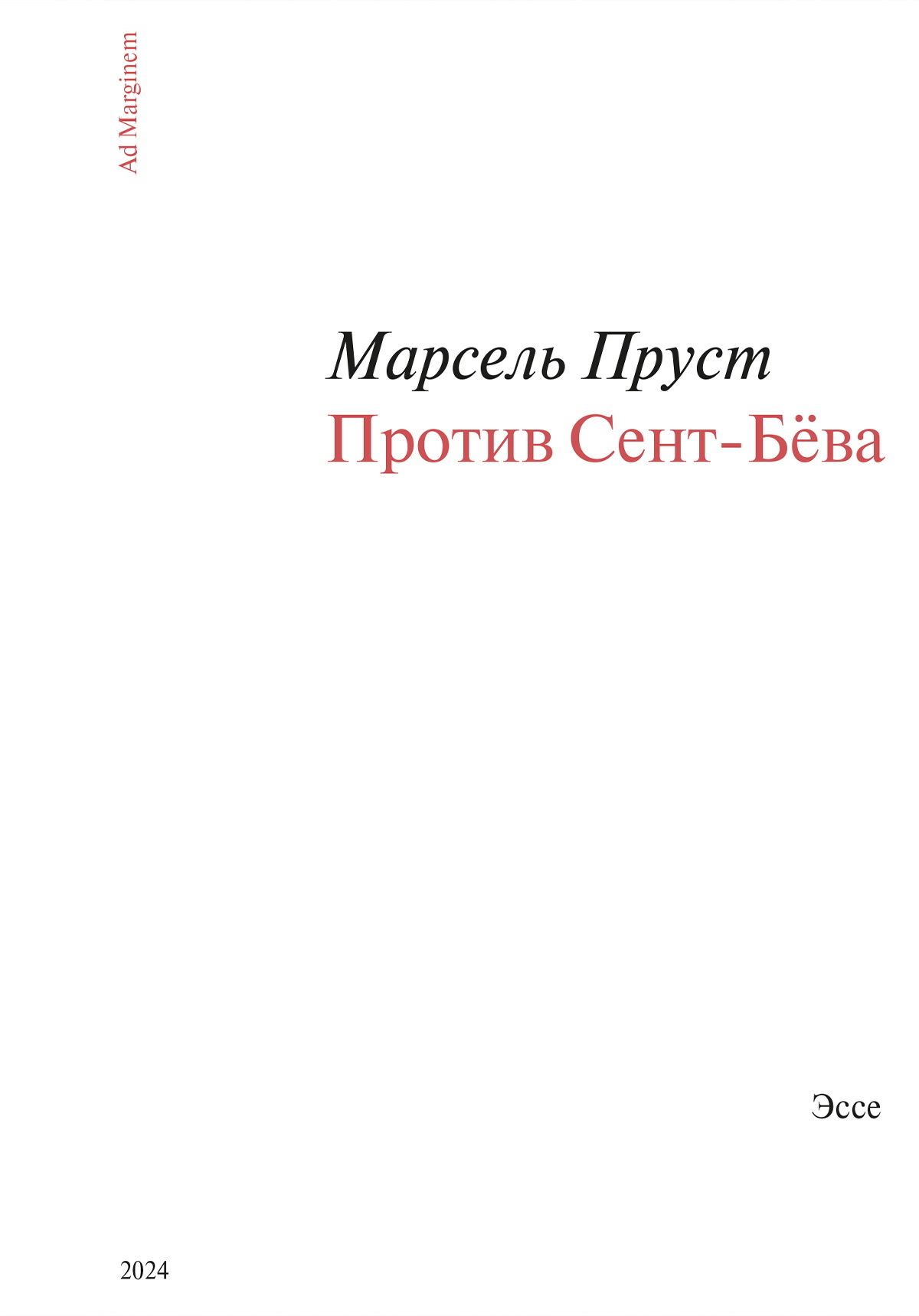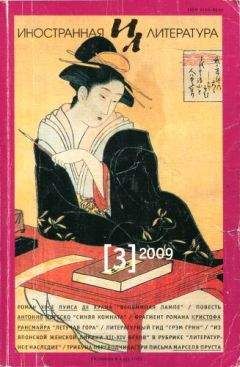тревожным и необычным аспектам животного мира, – из области безумия. Мир в его романах в достаточной степени устроен как театр марионеток, настолько там ощущается, как Гёте, держа в своих руках нити, руководствуется одному ему ведомой целью. Впрочем, отсюда и очарование его персонажей. В спальнях оборудованы небольшие театры для детей. В рабочих кабинетах висят полотна или лежат всевозможные инструменты. В одно повествование вклинивается другое, вложенное в уста того или иного героя, и, в свою очередь, прерывается основным. Герои намеренно не имеют каких-либо особых примет, это, как правило, «два любителя театра» («Годы учения Вильгельма Мейстера») или два человека, для которых мораль не писана (граф и баронесса в «Избирательном сродстве»). Персонажи появляются в начале драмы, а затем еще два-три раза или к самому концу. Часто они возникают опять лишь в финале, который им известен, отчего их выход несколько загадочен. И наконец, различные события предсказывают то, что должно произойти. Иные из персонажей символизируют одну из сторон человеческой натуры, которая как будто занимает Гёте: бесполезное развитие нарочитой активности у женщин (Филина в «Вильгельме Мейстере», Люциана в «Избирательном сродстве»). Автор передает, поручает свою роль судьи и гида тем или иным персонажам, которые как бы специализированы в той или иной области морали (как Митлер в «Избирательном сродстве»).
Жубер [268]
Жубер в своей переписке стремится понравиться. Прекрасный пассаж о стариках [269] в письме, адресованном Фонтану, написан им, без сомнения, потому, что он находит это рассуждение милым, он «помещает» его в письмо. Желание понравиться друзьям – это своеобразный реванш честолюбия. Те, кто, подобно Жуберу, отказались от славы по причине слабого здоровья, а то и слабого таланта, отсутствия воли и внутренней силы, побуждаемы к работе над малыми, чуть ли не случайными формами, чтобы блеснуть перед молодыми людьми из числа друзей, чьим поклонением они дорожат. Так, у Жубера есть одно редкое качество, что по-своему выражает его одиночество (вдохновение – миг, когда ум вступает в контакт с самим собой, когда внутренний монолог не имеет ничего общего с беседой и с человеком, болтуном и спорщиком, уживающимся в одной телесной оболочке с творцом) и, несмотря на это, нечто извечно общественное, принадлежащее к области писем, бесед, обращения к своей собственной персоне – Жуберу, к жизни, задуманной словно бы только для общества (что составляет также слабую сторону Стендаля, так, впрочем, отличающегося от Жубера). Но тем не менее высказывания Жубера окрашены его гениальностью. Становится понятно, что, чувствуя свое превосходство и всё же пребывая в неизвестности, не создавая крупных произведений, он в письмах пытается, по крайней мере, внушить Фонтану, Моле, г-же де Бомон [270] осознание его значительности. От этого, правда, отдает эгоизмом (преобладает «я»). Он подчеркивает значение пассажа, добавляя в конце письма: «Прощайте, я озяб, иду греться, мысли мешаются, устал». Вроде ничего особенного, но ведь написано это из кокетства, чтобы показать, что он одарил корреспондента экспромтом, хотя на самом деле это и есть не более чем экспромт.
Эту потребность того, кто «не прославится», быть оцененным я охотно сравнил бы с любовью к рекламе тех, чьи произведения в силу своеобычности и сложности не могут затронуть читателей. Такие писатели ищут удовлетворения лишь собственным потребностям, не помышляя о публике. Но при этом они пытаются воздействовать на нее чисто техническими приемами, чтобы их не имеющее успеха неудачное произведение хотя бы прогремело (Монтескью [271]). Уверен, что это также делается для того, чтобы молва о них дошла до их друзей.
Культура сравнима с хорошими манерами образованных людей. Есть среди них некое франкмасонство высшего света. Делается намек на какого-либо писателя, каждому понятно, о ком идет речь, вводить кого-либо в курс дела нет необходимости: все принадлежат к одному кругу. Есть в этом и слабые стороны: чрезмерная замкнутость на себе, на исключительности своего «я» как феномена, на своей самоценности, имеющей чисто реликтовое значение, на знаниях, которые служат лишь вспомогательными средствами для постижения истины.
О Шатобриане [272]
«Что мы пред этими славными именами? Всего лишь безвестные люди. Мы безвозвратно исчезнем, но ты, гвоздика поэта, маленький запоздалый цветок, сорванный мною среди вереска и лежащий сейчас на моем столе рядом с листом бумаги, ты возродишься вместе с ароматом засушенного цветка, а нам уж никогда не воскреснуть» («Замогильные записки», вся с. 485 II т., многочисленные образы, которыми она заканчивается, средневековый Христос с ранами поэта, вскрытие вены для творческого облегчения).
Мне нравится читать Шатобриана, потому что через каждые две-три страницы (подобно тому, как летней ночью раздаются с небольшим промежутком два всегда одинаковых звука, из которых состоит пение совы) он исторгает свой клич, столь же монотонный, сколь и неподражаемый, дающий почувствовать, что такое поэт. Читая у него о том, что ничто не вечно на земле, что смерть не за горами и всех ждет забвение, понимаешь: он искренен, ведь он – смертный среди смертных; и вдруг среди описываемых событий возникает рожденная загадкой его натуры та самая поэзия, к которой были устремлены все его помыслы, и та мысль, что должна была опечалить, чарует нас, мы ощущаем не грядущую смерть поэта, а его сегодняшнюю жизнь, чувствуем, что он выше мира вещей, событий, лет, и улыбаемся при мысли, что это нечто – как раз то, что мы уже успели полюбить в нем. Само это постоянство пьянит нас, поскольку мы чувствуем, что существует нечто более высокое, чем события, небытие, смерть, бесполезность всего сущего; и оттого, что это всепобеждающее нечто постоянно, неизменно и узнаваемо в нем, испытываем какую-то новую радость, как если бы видели, что эта волшебная и трансцендентная сила не только существует, но и порождает волшебных и трансцендентных персонажей, узнаваемых в силу их схожести. И когда Шатобриан, жалуясь, помогает росту этой волшебной и трансцендентной личности, которой он сам и является, мы улыбаемся, поскольку в тот самый миг, когда он считает себя униженным, он на самом деле спасен и живет той жизнью, в которой нет места смерти.
Конечно, он не всегда был такой личностью. Часто, и особенно тогда, когда он желает блеснуть своим галльским умом, живостью, вольтерьянством, мы любуемся им, не узнавая его. Но мало-помалу благодаря искренности он стал этой личностью. И когда она берет слово, пусть даже для того, чтобы с помощью всевозможных способов убедить нас в своем небытии, она внушает нам как раз обратное, поскольку мы ощущаем, что она жива. Мы вновь улыбаемся от того, что в тот самый момент, когда он начинает жить, он таков, как и прежде, когда мы чувствовали, что он живет, и потому мы восстанавливаем