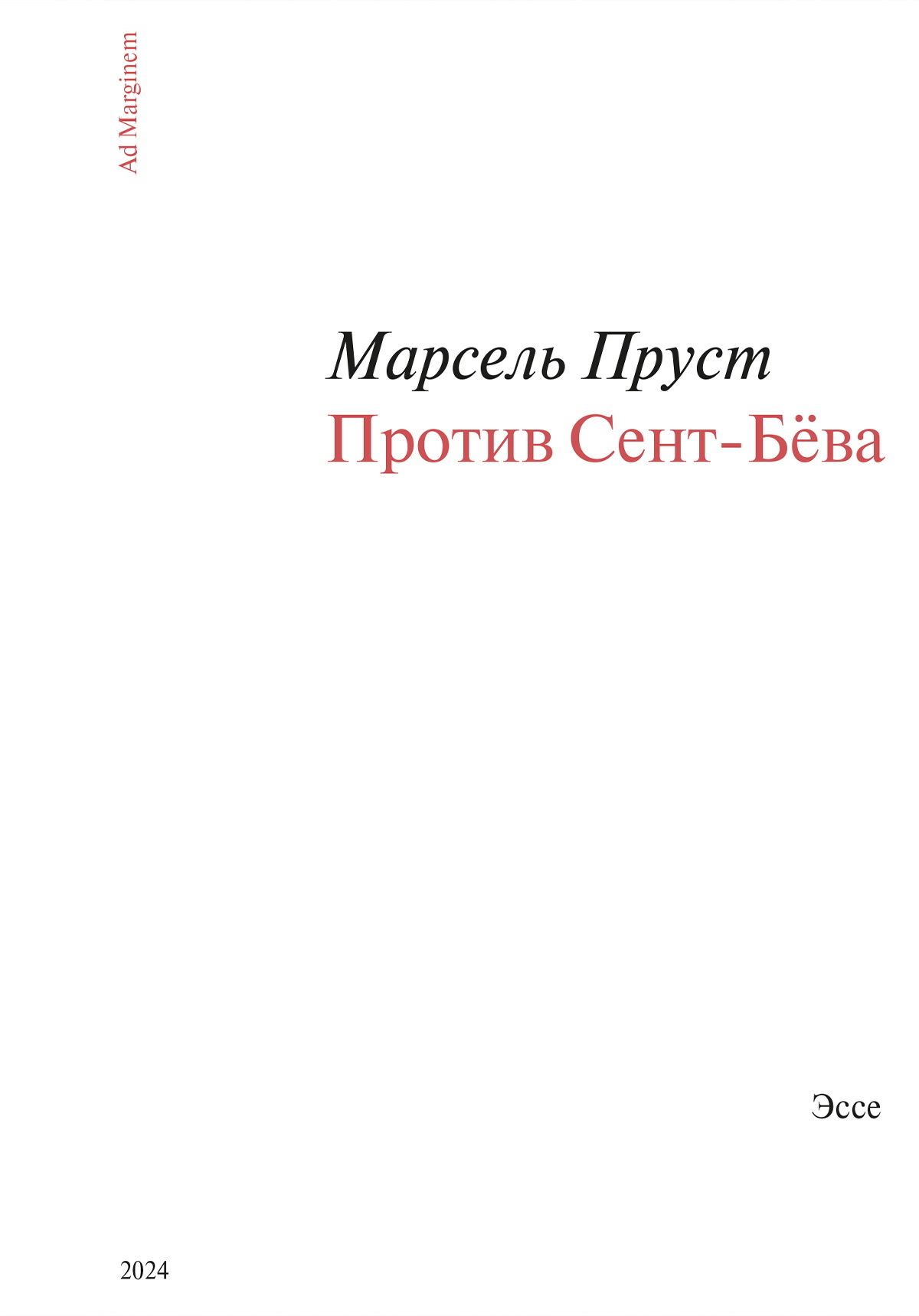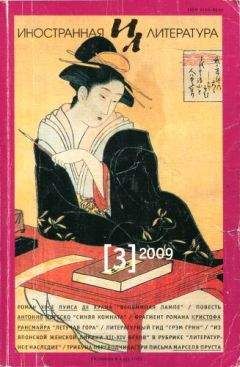в нем эту живую сущность, которая не умрет вовсе и которая живет трепетной и бессмертной жизнью в его творениях. Ясно сознаешь, что поэт – это нечто совершенно особенное; о чем бы он ни заговорил, за словами всегда стоит всё то же, и при этом он черпает величие и неповторимость не в явлениях и предметах, о которых повествует – они его не меняют, – а в ином: вдруг зашла речь о Великом Конде или о цветке, сорванном в Шантийи
[273], и сквозь его фразу просвечивает другая реальность, облик которой, формируясь, сообразуется с различными компонентами фразы.
Невозможно сказать, почему эта реальность превосходит другую реальность – историческую значимость описываемых событий, интеллектуальную ценность идей и даже категории смерти и небытия. Тем не менее есть в ней нечто превосходящее события любого масштаба, поскольку в ту минуту, когда Шатобриан говорит о падении империй и о том, какой пылинкой он сам представляется себе в этом вихре истории, его манера описывать цветок, сорванный в Шантийи, чарует нас – она всё та же, она дает нам ощущение значительности самих себя, пусть мы и не способны пережить империи, она дает нам ощущение чего-то непреходящего, по крайней мере, настолько возвышающегося над временем, что, даже знай мы: написанная нами страница сразу будет сожжена, мы всё равно с тем же воодушевлением станем писать ее, отказавшись во имя этого от всего, настолько непобедимо будет чувство созидания чего-то подлинного, не поддающегося уничтожению; и потому реальность эта, как я уже говорил, превосходит реальность смерти. Превосходит она и интеллектуальную ценность идей, поскольку, изрекая нечто более возвышенное, глубокое и обобщенное, нежели то, что им было сказано о голубом цветке, он тем не менее бессилен внушить нам то же чувство и, обращаясь не к читателю, а к поэту, не в состоянии обрести таким способом ни одну из тех черт, которые должны были пьянить его и заставить нас признать, что это Шатобриан и что это прекрасно. Ведь единственное, может быть, доказательство превосходства той непостижимости, которая и составляет нашу суть, над самыми прекрасными из идей состоит в том, что, только сталкиваясь с этой непостижимостью, мы близки к воодушевлению, благодаря которому наши собственные слова чаруют нас и заставляют других признавать, что это прекрасно.
Заметки о Стендале [274]
Ирония в духе XVIII века (Вольтер, хотя Бейль и не любил его). «…И даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старики нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой», «…и приказал арестовать сто пятьдесят патриотов, а это были тогда поистине лучшие люди Италии. <…> сырость, а главное голод, быстро расправились с этими „негодяями“».
«Об этом удивительном поединке пошло много толков, и лица, принимавшие в нем участие, благоразумно отправились путешествовать по Швейцарии».
Ирония по отношению к своим героям и изящество в духе Вольтера.
«…Ах, нет, тысячу раз лучше остаться в дураках», «Это был ужасный вечер» и последующие главы: «Ужасные мгновения».
«Есть предел человеческому страданию…»
«Прошли сутки после того, как Жюльен разбил старинную японскую вазу, и можно без преувеличения сказать: несчастнее его не было человека на свете».
Изящество в духе Вольтера.
Беседа князя Коразова и Жюльена в главе «Страсбург», заканчивающаяся словами: «Я схожу с ума, совсем пропадаю, – я должен следовать этим дружеским советам и не слушаться самого себя».
Оскудение великого ума и великого сердца, проистекающее из телесной немощи. Старость добродетельного человека: нравственный пессимизм. Посещение аббатом Шеланом Жюльена в тюрьме. – Последнее посещение Фабрицио колокольни аббата Бланеса.
Исключительный вкус к душевным переживаниям, возрождение прошлого, безразличие к честолюбивым помыслам и отвращение к интригам – перед лицом смерти (Жюльен в заключении: исчезновение честолюбия, любовь к г-же де Реналь, к природе, приверженность мечтательности) либо по причине равнодушия, вызванного любовью (Фабрицио в тюрьме, но здесь тюрьма означает не смерть, а любовь к Клелии). Это парение души связано у Стендаля с парением в прямом смысле (камера Жюльена в тюрьме расположена очень высоко над землей, из нее открывается прекрасный вид на округу, то же и с темницей Фабрицио).
Это приводит к третьей (преходящей) причине безразличия: восторг перед природой, как правило, на возвышенностях. Пещера, в которой Жюльен открыл для себя столько стран: тогда он был честолюбцем, но, как говорит он сам: «Тогда ведь это была моя страсть» (последние страницы «Красного и черного»); он говорит, что пещера «невольно влечет к себе душу философа»; колокольня, на которой Фабрицио проводит «один из счастливейших дней своей жизни»; скала, с которой однажды ночью он смотрит на озеро Комо и испытывает к своей тетке такие чувства, которым нет места в заурядной повседневной жизни (различие между тем, к чему стремишься в минуты воодушевления, и тем, что наступает потом, когда оно прошло). А в остальном любовь к природе – та же, что в XVIII веке, прекрасные, обязательно возвышенные ландшафты, леса Вержи или терраса Верьера, башня Фарнезе или Грианта. Впечатления от этих пейзажей очень просты – это ощущения от мест, расположенных чудесным образом. Воды Верьера или прекрасные воды озера Комо, окраска горных вершин, рассвет, брезжущий сквозь ветви деревьев (в «Красном и черном», кажется, дважды: у г-жи де Реналь и у Матильды; в «Пармской обители» наверняка то же самое).
Раскаяния, частая слабость, грустная форма любви, отнюдь не ставшей добродетельной. Максима Стендаля: никогда ни в чем не раскаиваться.
«…ударом для этой души, обессиленной слишком длительным горем. Горе это – была разлука с Жюльеном, а она называла его угрызениями совести».
Кроме того, накал страсти, чувственное самозабвение, всегда неожиданно наступающие вслед за раскаянием, за разлукой. Сцены, в которых г-жа де Реналь отталкивает Жюльена, затем вновь привлекает его к себе после разрыва (кажется, раза два). Idem у Фабрицио с Клелией (в этом романе отказ видеть Фабрицио введен для того, чтобы подчеркнуть итальянский характер, полный предрассудков, а также бесполезность религиозных предписаний, их формальный характер).
В каком-то смысле прекрасные книги сообщают описываемым событиям нечто особое. В «Красном и черном» каждое событие комментируется словами, объясняющими, указывающими, что происходит бессознательно в душе: это роман побуждения. «Ее очень удивил этот жест, и только потом уж, подумав, она возмутилась». «…Допущен только к самому краешку стола, чем, быть может, и объяснялись его ненависть и отвращение».
Роман читателя: как из критических заметок выросли «Поиски утраченного времени»
В начале 1950-х французский издатель Бернар де Фаллуа опубликовал две книги Марселя Пруста, которые перевернули уже сложившуюся к тому времени мифологию вокруг одного из главных явлений европейской литературы XX века. За три десятилетия истории прочтений романа «В поисках утраченного времени» (семь его частей выходили с 1913 по 1927 год) Пруст в читательском воображении получил ореол автора «без