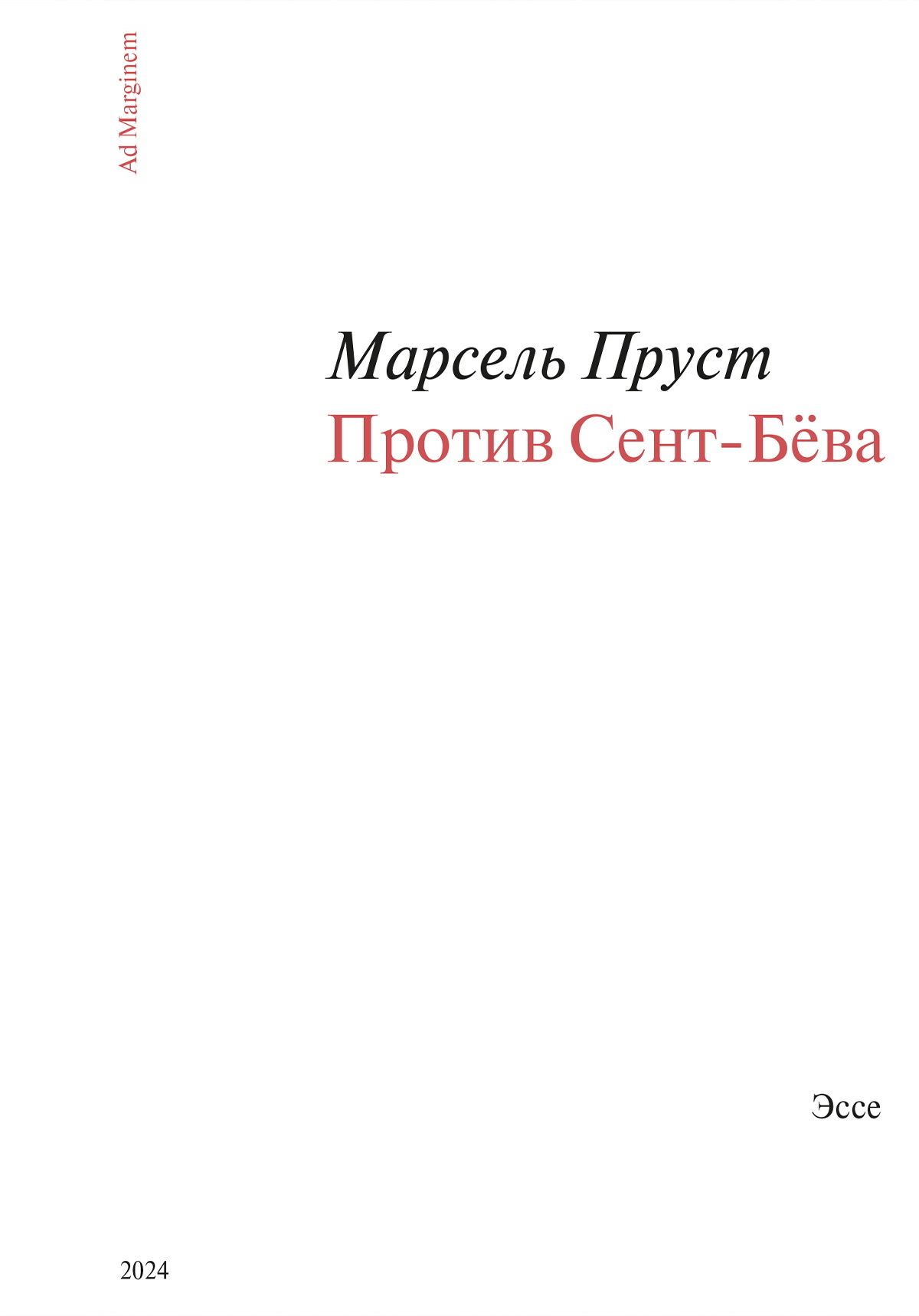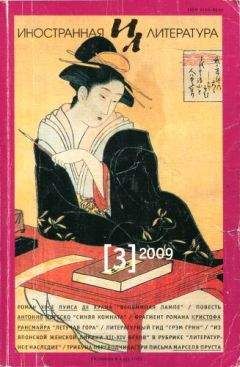в унизительной переписке с Сент-Бёвом, мучительно пытающийся приспособиться к авторитетному вкусу, найти себе хоть какое-то место – и совершенно оторванный от всех контекстов абсолютный поэт, звучащий в строках, укоренившихся в памяти его верных читателей. В «Поисках» бабушка рассказчика боится, как бы внуку не пришлось принять на себя груз судьбы «прóклятого поэта»: читателю романа полезно заметить, что «Против Сент-Бёва» возлагает ответственность за проклятие на умного и уважаемого критика, а не на невежественную «толпу».
При всей связности эстетической программы Пруста его и в этом проекте продолжала преследовать та же неспособность оформлять правильные, округлые, уверенные сентенции серьезного литератора, что с юности обрекала его на роль инфантильного дилетанта в глазах даже самых благосклонных коллег. Потеря надежды на публикацию книги, вероятно, высвободила в нем какую-то игровую энергию. Если чуть сдвинуть фокус, можно даже прочитать «Против Сент-Бёва» как иронический рассказ. Главный герой, только пробующий свои силы в литературе, перечитывая великого критика, начинает с ним заочный спор и решает записать свои идеи. Пруст разыгрывает в набросках несколько сцен на один мотив: персонаж читает газету, где опубликована его статья. Некий дебютант (среди спорных черновиков есть и вариант от первого лица) с удивлением не может узнать собственные слова, отчужденные от его ума, размноженные печатным станком; привыкший к славе Сент-Бёв в том же положении предвкушает реакции поклонниц. Сент-Бёв напоминает здесь удачливого двойника из зловещих романтических сюжетов. Пруст отвергает его представление о писательстве, но прустовский герой (конечно, еще только намеченный пунктиром) испытывает соблазн стать новым Сент-Бёвом. (На этом фоне привязанность к великому критику матери героя создает отдельную линию напряжения, когда выясняется, что именно маму надо переубедить в первую очередь.)
Аналогичный эпизод в романе станет единственным реальным шагом рассказчика по направлению к профессиональной литературной карьере – и в каком-то смысле обманкой, потому что подлинное пробуждение в конце «Обретенного времени» не имеет ничего общего с переживаниями неуверенного молодого критика по поводу первой публикации. Финал «Поисков» написан человеком, давно открывшим для себя горизонт, недоступный Сент-Бёву. Чтобы это увидеть, надо разобраться в лейтмотивах прустовских заметок.
Сент-Бёв превратился в персонажаантагониста не внезапно. Имя его часто встречается в обширной переписке Пруста, обычно со знаками иронического недоверия. Он мелькает практически в той же ипостаси, что в статьях, и в «Парижских салонах» – цикле очерков светской жизни, опубликованных Прустом в газете Le Figaro в 1903–1904 годах. Вопреки законам сиюминутной светской хроники, цикл этот открывался исторической фантазией. Среди завсегдатаев салона принцессы Матильды, племянницы Наполеона, – череда литературных звезд середины XIX века. Сент-Бёв, названный в одном ряду с Мериме и Флобером, уже здесь вводится Прустом в роли оппонента: критик приписывает всем аристократам консерватизм, а на деле сам уступает принцессе в эстетическом чутье. Прямолинейная и совсем не эрудированная Матильда сумела по достоинству оценить автора «Госпожи Бовари», проявив чувствительность к духу времени, которой всё время недоставало Сент-Бёву. Еще интереснее, что у Пруста принцесса, как и ее наследницы из числа знакомых ему хозяек модных салонов, обладает гораздо более глубоким влиянием на жизнь искусства, чем профессионалы, чья значимость зависима от их роли в светском спектакле.
В этом образе слишком светского литератора угадывается сумма раздраженных отзывов о Сент-Бёве, каких много у писателей двух поколений до Пруста, от Бальзака до Гонкуров. Не то паразит, не то самозванец, вдохновленный псевдомузой, «бледной, как летучая мышь» по бальзаковскому выражению, он в писательском воображении часто становился персонификацией критики вообще, неприятной тени, преследующей живое искусство. В отличие от предшественников Пруст обосновывает эту антипатию, не прибегая к биографическому психологизму. Фатальный изъян Сент-Бёва, который постоянно высвечивает Пруст, – в том, что он попросту плохой читатель. Пруст подмечает все оговорки и ошибки, которые разоблачают небрежность критика, то с отвращением отбрасывающего роман Стендаля, то обложившегося документами в попытках разыскать «сведения» о писателях вместо того, чтобы всмотреться в их сочинения. Залог успеха Сент-Бёва в том, как он умеет создать впечатление непринужденной беседы, заставить читателей поверить, что их посвящают в секреты писательских жизней. Пруст показывает, что такой критик выдает за респектабельную аналитику искусство сплетни.
Среди любимых жанров Пруста – «пастиш», более или менее ироническая имитация чужого стиля. Писать «в манере такого-то» было довольно популярной литературной игрой в начале века: в 1908 году успехом пользовался сборник пастишей Поля Ребу. Из легкомысленной условности этой игры Пруст, по своему обыкновению, извлек важный для него творческий импульс. Подражание – самая, пожалуй, естественная для Пруста форма работы с чужим словом. Прочитать всерьез – значит освоить, перенять манеру другого автора так, чтобы все границы растворились в игровом сотворчестве.
В цикле пастишей, опубликованном в Le Figaro в 1909 году (то есть тогда же, когда статьи о Сент-Бёве начали обрастать черновиками романа), газетный материал вокруг «дела Лемуана», истории мошенничества с фальшивыми бриллиантами, пересказывается на разные, хорошо узнаваемые голоса. Пастиши анахроничны: Пруст заставляет высказаться всех, чей стиль ему интересно примерить, от мемуариста начала XVIII века Сен-Симона до актуального театрального критика Эмиля Фаге. Не обошлось и без Сент-Бёва: Пруст заставляет его рецензировать вымышленный роман Флобера – естественно, совершая явные промахи в суждениях и не замечая тех уникально флоберовских деталей, которые тщательно воспроизводит имитация.
В статьях Пруст не прибегает к этому приему напрямую, но сохраняет те же инстинкты, когда берется приводить нужные для его аргументации цитаты. В воспоминаниях о Прусте часто звучит восхищение его исключительной памятью, позволявшей ему воспроизводить наизусть длинные пассажи цветистой прозы. Хотя нельзя точно доказать, что над статьями он работал, опираясь только на читательскую память, многое в черновиках говорит в пользу этой версии. Даже фразы самого Сент-Бёва он разбрасывает по тексту в приблизительном пересказе: источники установить можно, но перед нами почти пастиш, выжимка из впечатлений о Сент-Бёве. Дело не в недостатке уважения к оппоненту: вообще все цитаты в статьях пестрят небольшими искажениями и обычно произвольно выхвачены из контекстов исходных сочинений. Пика эта техника достигает в статье о Бодлере, где автор словно разыгрывает кукольный спектакль, где сам же и говорит голосами критика и поэта. Ни одно бодлеровское стихотворение не прозвучит полностью и точно – из разрозненных стихов неизбежно складывается какая-то новая, прустовская версия «Цветов зла». Мы можем домыслить значение такого произвола по-разному: может быть, Пруст просто не стал дорабатывать текст, а болезнь затрудняла для него доступ к нужным изданиям (скорее всего, основным источником была библиотека матери), но нельзя не уловить и складывающийся литературный эффект, понятный читателям романа. Статьи, по плану или невольно, построены по логике спонтанных воспоминаний. Нам, как и захваченному потоком памяти рассказчику, доступны отрывки прочитанных книг в