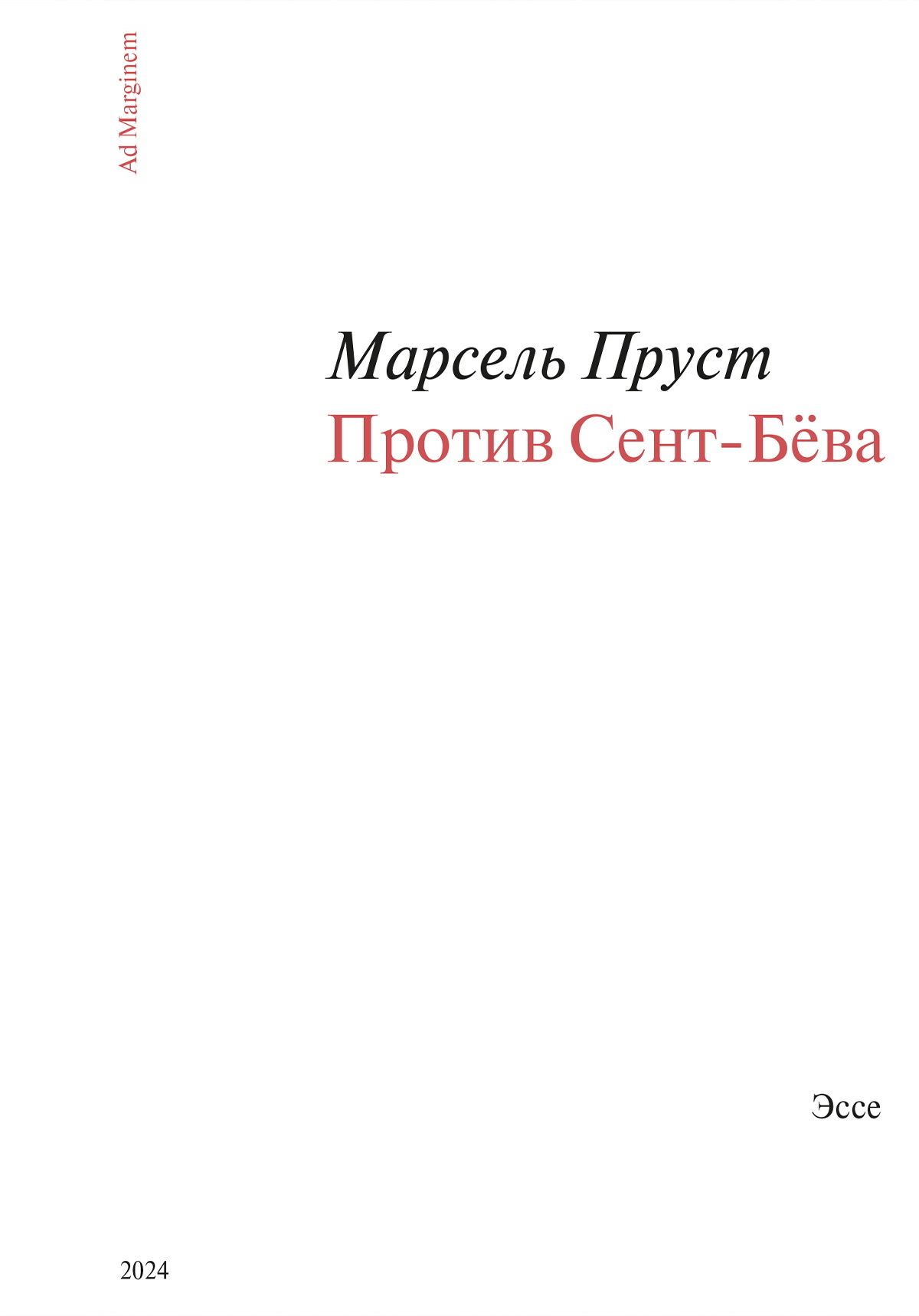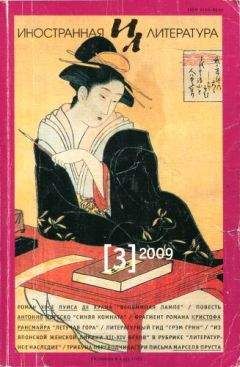У Пруста подтверждение максимы «Жизнь подражает Искусству» не нуждается в декадентской экзотике. Ценность наивного, непрофессионального, нерафинированного взгляда на искусство автор «Поисков» подчеркивал не раз. Еще в «Утехах и днях» он выступает с апологией «плохой музыки»: подчас сентиментальная песенка трогает глубже, чем великая симфония, и молодому эстету, окруженному артистами и герцогинями, было жизненно важно об этом не забывать.
Слепота Сент-Бёва как читателя уничтожает всякую ценность его суждений, делает его слабее комического Германта и поклонников вульгарных мелодий: он закрыл для себя сокровенный мир читательского счастья; невозможно представить его в одной из любимых сцен Пруста, где мальчик на летних каникулах самозабвенно уходит с головой в роман. Но старший критик объективно превосходит неведомого ему младшего соперника в одном: Сент-Бёв регулярно писал и печатался. Пусть его стихам не была суждена долгая жизнь – даже эти стихи смотрятся куда более серьезным вкладом в литературу, чем ворох брошенных замыслов и неловких дебютов за плечами (уже почти сорокалетнего) Пруста – и тот охотно признаёт свою слабость. Как гениальному читателю начать, наконец, писать?
Объясняя все литературные явления при помощи фиксации читательских переживаний, Пруст в эссеистике распознает в себе единственный талант, в котором он никогда не сомневался. Он прекрасно умеет схватывать «мотив», «мелодию» чужого стиля. Он не только с легкостью воспроизводит в пастишах голос едва ли не любого прочитанного автора, но и находит десятки новых деталей в описании чтения как такового. В его метафорах просвечивают подступы к серьезной, опережающей свое время теории восприятия и понимания: читать – значит исполнять музыкальное произведение; чтение подобно переводу с незнакомого языка. Но Пруст хотел быть творцом, а не аналитиком.
В «Набросках предисловия» к задуманной книге статей автор, здесь особенно похожий на романного рассказчика, глядя из окна поезда, видит пейзаж из бальзаковской «Лилии долины». Вторичность своего видения, как и неспособность схватить в слове живое впечатление, он воспринимает как залог творческого поражения.
Дело не сводится к противоречию между стихией естественной жизни и магией ее словесных зеркал. В более позднем большом эссе «Памяти убитых церквей» уже не природа, а культура так же пропускается сквозь фильтр вычитанных впечатлений. Чтение «Камней Венеции» Рёскина прямо под мозаиками собора Святого Марка ведет к сомнениям: что-то нечисто с эстетической радостью, отягощенной готовыми плодами блестящего, но заемного интеллекта: «Нечто вроде эгоистического самолюбования неизбежно присутствует в таком смешанном упоении искусством и собственной эрудицией, и эстетическое удовольствие от этого, быть может, делается острее, но теряет чистоту» (перевод И. Кузнецовой). Страх не добраться до истоков и подлинного впечатления, и подлинного акта творения бросает тень на все прустовские эссе.
Пруст почти никогда не пишет о самом творческом процессе, даже неудачном, будто не в силах пробудиться от читательских грез. Интересны поэтому редкие признания начинающего писателя в таких коротких фрагментах, как «Поэтическое творчество» и «Закат вдохновения». Возвышенные образы условных поэтов, чья жизнь заведомо не равна биографии, нагружены знаками бессилия. Уставший Дон Кихот, отказывающийся от своей миссии, перерождается в Малларме, сжигающем недовоплотившуюся Книгу. Унылые картины творческой зимы в «Закате вдохновения» кажутся еще более безысходными – но вдруг прорисовываются намеки на повествование, какие-то офицеры в каком-то городке садятся за рояль. Пруст неслучайно оборвал набросок на самом интересном: «И тогда…» На этих стадиях – пока не начнется настоящий черновик «Поисков» – он не в состоянии сделать нужный шаг. В каком-то смысле сделал он его обманным путем: роман тоже заканчивается в точке настоящего начала.
«Поиски» завершаются не просто рождением рассказчика как писателя: строго говоря, мы так и не узнаем, посвятит ли он себя писательскому ремеслу, опубликует ли таинственную книгу, которая начинает расти в нем, когда память воскрешает единовременно все эпизоды и впечатления, уже прочитанные нами по частям. Давнюю свою проблему – неспособность найти уникальный голос, выйти из тени прочитанных, выученных наизусть, перепетых им многажды гениев – он решает при помощи полного принятия. Все, как открывается ему в итоге, говорят вместе, все пишут одну и ту же книгу, и радость личного творчества не противоречит радости узнавания: «И я мог сказать уже, что, если у меня обнаруживалась – и мне представлялось это очень важным – какая-нибудь черточка, казавшаяся мне моей собственной, индивидуальной, мне всё же было приятно уловить ее близость черточкам не столь ярко выраженным, но различимым, аналогичным тем, что встречаются у других писателей» (перевод А. Смирновой). Эти «черточки», варианты мадленки, боярышника, неровных ступенек, он находит в «Замогильных записках» Шатобриана, «Сильвии» Нерваля, «Цветах зла» Бодлера: за десять-двенадцать лет, отделяющих «Против Сент-Бёва» от рукописи «Обретенного времени», круг чтения Пруста как будто нисколько не изменился. Изменилось самоощущение: теперь перед нами романист, уверенный в своей включенности в бесконечную цепь авторов, чьи «глубинные „я“» заняты одним общим трудом.
Открытие, сделанное героем в финале романа, оправдало себя и в дальнейшей судьбе автора. Те же свойства, что делали писательский рост Пруста мучительным, замедленным, плохо вписывающимся в нормы литературной карьеры, после выхода первых двух книг его романа сделали создателя «Поисков» исключительно притягательной фигурой для модернистской культуры. В мемориальной статье, вышедшей после смерти писателя, знаменитый французский критик Альбер Тибоде предложил, вопреки большинству своих коллег консервативного толка, видеть в Прусте подлинное продолжение национальной традиции – но традиции динамичной, мобильной, восходящей к «Опытам» Монтеня. Незакрепленность и текучесть прустовского мышления, нежелание «доверять рассудку» делают наиболее, казалось бы, естественной для него формой эссе или лирические фрагменты. Пруст, однако, методом долгих и внешне малоуспешных проб нашел способ вырастить из вороха набросков большой роман, скрепленный плотной сетью перекличек, метафор, цитат. Почти весь его исходный материал представлен уже в черновиках «Против Сент-Бёва»: а как сработает магия, превратившая серию попыток односторонней литературной полемики в огромное повествование о десятках жизней, мировой войне и тайне времени – станет понятно читателям, добравшимся до последних страниц «Обретенного времени».
Н. О. Ласкина
Комментарии
Перевод осуществлен по изданию: Proust M. Contre Sainte-Beuve; Essais et articles / établie par Pierre Clarac avec la collaboration d’Yves Sandre. Bibliothèque de la Pleiade, 1971.
Наброски предисловия
[1]
…как это случается с душами умерших в иных народных легендах. – Ср. в первом томе романа «В поисках утраченного времени»: «Мне кажется весьма разумным кельтское поверье, будто души тех, кого мы потеряли, пребывают в плену, заключенные в некоем низшем существе, в животном, растении, неодушевленном предмете, и на самом деле они для нас утрачены вплоть до того дня, который для многих так никогда и не наступает, дня, когда мы вдруг пройдем мимо того дерева, вступим в обладание тем предметом, в котором они томятся» (пер. Е. Баевской).
[2]
Призраки <…> прошлого <…> протягивали ко мне бессильные