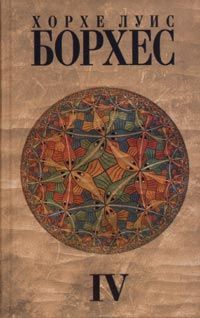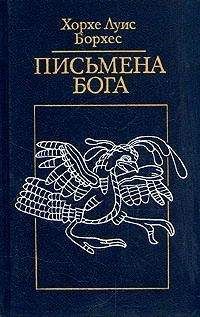но удивительно музыкальном. Джойс внес в английский новую музыку. Ему принадлежат слова мужественные (но не искренние): «Из всего, что со мной произошло в жизни, наименьшее значение имела потеря зрения». Часть своих произведений он создал незрячим: шлифуя фразы по памяти, иногда проводя над одной фразой целый день, затем записывая и выправляя их. Все это – будучи полуслепым, а временами – слепым. Подобным же образом ущербность Буало, Свифта, Канта, Рёскина и Джорджа Мура окрашивала печалью их труд; то же самое относится и к изъянам, обладатели которых достигли всеобщей известности. Демокрит из Абдеры выколол себе в саду глаза {118}, чтобы вид внешнего мира не мешал ему сосредоточиться; Ориген оскопил себя.
Я привел достаточно примеров. Некоторые столь известны, что мой собственный случай совестно и упоминать; но люди всегда ждут признаний, и у меня не было причин отказываться от них. Хотя, возможно, нелепо ставить мое имя рядом с теми, которые мне приходилось называть.
Я говорил, что слепота – это образ жизни не такой уж плачевный. Вспомним стихи величайшего испанского поэта Луиса де Леона {119}:
Я хочу жить сам,
радуясь благам, что дает небо,
одиноко,
свободный от любви, от ревности,
от ненависти, надежды, от страха.
Эдгар Аллан По знал наизусть эту строфу. Мне кажется, что жить без ненависти нетрудно, я никогда не испытывал ненависти. Но жить без любви, я думаю, невозможно, – к счастью, невозможно для любого из нас. Но обратимся к началу: «Я хочу жить сам, радуясь благам, что дает небо». Если мы сочтем, что мрак может быть небесным благом, то кто «живет сам» более слепого? Кто может лучше изучить себя? Используя фразу Сократа, кто может лучше познать самого себя, чем слепой?
Писатель – живой человек, поэтому нельзя быть писателем по расписанию. Поэт бывает поэтом всегда, он знает, что покорен поэзией навек. Наверное, художник чувствует, что линии и цвета осаждают его. А музыкант ощущает, что удивительный мир звуков – самый удивительный из всех миров искусств – вечно ищет его, его ждут мелодии и диссонансы. Для целей человека искусства слепота не может быть лишь бедствием – она становится орудием. Луис де Леон посвятил одну из своих од слепому композитору Франсиско Салинасу {120}.
Писатель – или любой человек – должен воспринимать случившееся с ним как орудие; все, что ни выпадает ему, может послужить его цели, и в случае с художником это еще ощутимее. Все, что ни происходит с ним: унижения, обиды, неудачи – все дается ему как глина, как материал для его искусства, который должен быть использован. Поэтому в одном из стихотворений я говорю о том, чем были вспоены античные герои: бедствия, унижения, раздоры. Это дается нам, чтобы мы преобразились, чтобы из бедственных обстоятельств собственной жизни создали нечто вечное или притязающее на то, чтобы быть вечным.
Если так думает слепой – он спасен. Слепота – это дар. Я утомил вас перечислением полученных мною даров: древнеанглийский, в какой-то степени шведский язык, знакомство со средневековой литературой, до той поры неизвестной мне, написание многих книг, хороших и плохих, но оправдавших потраченное на них время. Кроме того, слепой ощущает доброту окружающих. Люди всегда добры к слепым.
Мне хотелось бы закончить строчкой Гёте {121}. Я не очень силен в немецком, но думаю, что смогу без грубых ошибок произнести слова: «Alles Nähe werde fern» – «Все, что было близко, удаляется». Гёте написал это о вечерних сумерках. Когда смеркается, окружающее словно скрывается от наших глаз, подобно тому как видимый мир почти полностью исчез из моих.
Гёте мог сказать это не только о сумерках, но и о жизни. Все удаляется от нас. Старость должна быть высочайшим одиночеством, если не считать высочайшего одиночества смерти. «Все, что было близко, удаляется» – это относится и к постепенно усиливающейся слепоте, о которой я рад был рассказать вам сегодня вечером и рад доказать, что она не совершенное бедствие. Она должна стать одним из многих удивительных орудий, посланных нам судьбою или случаем.
Представим себе обнаруженную среди восточных книг миниатюру, написанную много веков назад. Она может оказаться арабской, объединяющей в себе все сюжеты «Тысячи и одной ночи», а может быть, это китайская иллюстрация к роману с сотнями и тысячами персонажей. Среди множества изображений одно – дерево, похожее на опрокинутый конус и горящие багрянцем мечети за железной оградой – привлекает наше внимание, – и уже от него взгляд переходит к другим. День угасает, слабеет свет, и, наполовину разглядев миниатюру, мы понимаем, что нет на земле ничего, что не изображено здесь. Все, что было, есть и будет, случившееся и грядущее, все это ждет нас где-то в этом безмолвном лабиринте… Я вообразил волшебную вещь, миниатюру, являющую собой микрокосм; поэма Данте – это подобная миниатюра, охватывающая всю Вселенную. Однако мне кажется, что, если бы можно было прочесть ее в неведении (увы, эта радость нам недоступна), вселенское оказалось бы не первым, что бросилось нам в глаза, не самым возвышенным или величественным. Гораздо раньше, мне думается, мы обратим внимание на менее подавляющие и гораздо более привлекательные особенности поэмы; прежде всего, возможно, на то, что отмечают английские исследователи Данте: разнообразие и верность точных описаний. Поэту мало сказать, что свитые вместе человек и змея превращаются друг в друга, человек становится змеей, а змея человеком; он сравнивает эту двойную метаморфозу с горением бумаги, когда по белому листу, превращая его в черный, бурою каймой бежит огонь («Ад», XXV, 64). Ему мало сказать, что во тьме седьмого круга грешники прищуривают глаза, чтобы различить что-либо, он сравнивает их с людьми, озирающими друг друга в новолуние, или со старым швецом, вдевающим в иголку нить («Ад», XV, 19). Ему мало сказать, что в глубинах Вселенной вода замерзает, он пишет об озере: «подобное стеклу, а не волнам» («Ад», XXXII, 24)… Именно эти сравнения имела в виду Маколей, когда утверждала, в противоположность Кэри {122}, что «туманно-возвышенное» в поэме Мильтона и его «великолепные обобщения» трогают меньше, чем дантовские подробности. Впоследствии Рёскин («Modern Painters» [38], IV, XIV) подверг критике хаотические картины поэмы Мильтона, отдавая предпочтение строгой топографии преисподней, описанной Данте. Известно, что поэты привержены к гиперболам: у Петрарки или у Гонгоры волосы женщины всегда золото, а вода – непременно хрусталь; этот грубый, механически употребляемый алфавит символов, основанный, как можно предположить, на безразличии и небрежности, обесценивает слова. Данте не допускает